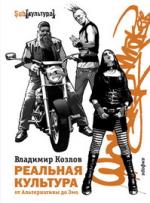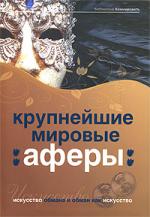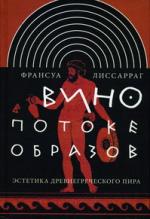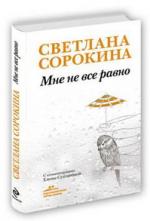Отрывок из новой книги Владимира Козлова «Реальная культура: от Альтернативы до Эмо», выпущенной издательством «Амфора».
Хиппи
Хиппи — первая субкультура, практически в чистом виде «импортированная» с Запада (естественно, с поправкой на «местную специфику»). В отличие от американских хиппи, их отечественные последователи существовали в несвободном обществе, и какие-либо массовые акции — даже пацифистские, не говоря уже о социальных или политических, — были в принципе невозможны. Тем удивительнее узнавать о «демонстрациях» советских хиппи в Гродно и Вильнюсе.
«Дети цветов»
Считается, что само название «хиппи» — «hippie» — происходит от «hipster»: так в 1940-е и 1950-е годы назвали не слишком-то родственных будущим волосатым нон-конформистам джазовых музыкантов. А в 1965 году журналист Майкл Фоллон впервые применил слово «хиппи» к тусовке битников, поселившихся в районе Хейт-Эшбери в Сан-Франциско. Скоро мода на хиппизм распространилась по всей Америке, и слово активно подхватили все СМИ.
Также принято считать, что хиппи — «потомки» битников, так называемого поколения «бит» («Beat Generation»), с которого началась американская контркультура. Движение битников было не слишком массовым. Собственно, и движения не было, скорее лишь тусовка вокруг писателей Уильяма Берроуза и Джека Керуака и поэта Аллена Гинсберга, плюс поклонники их литературы. Но резонанс вокруг себя битники создали большой, потому что откровенно ненавидели общепринятые ценности, погружались в литературные эксперименты и не отказывались и от экспериментов с наркотиками. То, что писали Берроуз, Керуак и Гинсберг, заметно отличалось от американской мейнстрим-литературы того времени. Взять хотя бы автобиографическое описание своих отношений с наркотиками в «Джанки» Берроуза, поездки автостопом по стране в сочетании с «асоциальным» образом жизни в книгах Керуака и самое известное стихотворение Гинсберга «Вой», в котором поэт писал: «Я видел что лучшие умы моего поколения были разбиты безумием голодные влачащиеся по негритянским кварталам на рассвете ища где бы с горяча ширнуться» <Перевод Н. Тихонова.>.
Не зря именно в связи с битникам возникло понятие «контркультура», которое теперь употребляют направо и налево. Битники действительно являлись контркультурой — движением в оппозиции всему официальному, «нормальному» и общепринятому.
От битников хиппи взяли прежде всего неприятие традиционных норм, свободу как главную ценность (в том числе сексуальную), ну и наркотики. Хиппи были уже гораздо более многочисленной субкультурой — к тому времени, как они появились, выросло новое поколение молодых людей, которых не устраивали фальшивые «американские ценности».
С позиций сегодняшнего дня можно по-разному относиться к хиппи. Кто-то видит в них просто молодежь, которая слушала психоделический рок, ела ЛСД, курила траву и исповедовала «свободную любовь». А кто-то считает их нон-конформистми, бросившими вызов обществу, протестовавшими против войны во Вьетнаме и социальной несправедливости. Так или иначе, хиппи наделали немало шума и повлияли на многие более поздние субкультуры.
Главными акциями хиппи, вызвавшими общественный резонанс, были хэппенинг «Human Be-In» в Сан-Франциско в 1967 году, «лето любви» того же года и в том же городе, на которое в окрестностях Хайт-Эшбери собралось около ста тысяч человек, музыкальный фестиваль в Вудстоке, штат Нью-Йорк, в 1969 году. На фестивале выступили Джоан Баэз, Дженис Джоплин, The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Crosby, Stills, Nash & Young, Карлос Сантана, The Who, Jefferson Airplane, Джими Хендрикс. Вообще движение хиппи всегда было связано с музыкой — особенно с психоделическими группами вроде The Grateful Dead и Jefferson Airplane.
Наркотики тоже были важной «фишкой» хиппи. Прежде всего, марихуана, которую курили практически все, но еще и ЛСД, и мескалин. Причем речь шла не просто о том, чтобы «вставило». Хиппи — по крайней мере, большая часть их — серьезно верили в «расширение сознания» и духовно-религиозные практики, связанные с «кислотой». Эти идеи тогда же высказывали и серьезные идеологи — Тимоти Лири, Ральф Метцнер и Ричард Элперт.
Еще одним принципиальным убеждением хиппи был пацифизм. Они не только протестовали против войны во Вьетнаме, но и всячески отрицали любое насилие. Один из лозунгов провозглашал «Flower Power» — «власть цветов», и самих представителей хиппи за это часто называли «flower children» — «дети цветов». В этом, конечно, проявлялась наивность всего движения: даже в то время было понятно — сколько ни забрасывай танки цветами, этим их не остановишь; мирные протесты легко можно подавить грубой силой.
Хиппи всячески пропагандировали и практиковали «свободную любовь». Это была своего рода реакция на все еще пуританские взгляды американского обывателя (ведь совсем недавно, в начале 1960-х, разразился скандал из-за публикации «Лолиты» Владимира Набокова). Среди «теоретических основ» «сексуальной революции» 1960-х, в которой немалую роль сыграли хиппи, была книга философа и социолога Герберта Маркузе «Эрос и цивилизация. Философское исследование учения Фрейда».
Другими основными идеями хиппи были вегетарианство и здоровое питание, коммунальное и кооперативное общежитие как альтернатива традиционным государственно-общественным формам, интерес к нетрадиционным религиям, прежде всего восточным, духовный поиск и свободная самореализация.
У нас
В СССР идеи хиппи проникли, как рассказывают очевидцы, уже в середине 1960-х. Ясно, что здесь тогда не было ни психоделических наркотиков, ни своего психоделического рока. Поэтому слушали в основном западные группы — достать записи, в принципе, было возможно: привезенные с Запада пластинки перепродавались и переписывались на бобины. А уж идеям хиппизма тем более никто не мог помешать распространяться среди жаждущей свободы молодежи.
Из интервью Алика Олисевича:
В середине 1960-х гг. в Риге, Таллине, Львове, Москве стали появляться небольшие группки людей. По сравнению с Западом очень малочисленные. […] У нас хиппи были диссидентами, и их было совсем немного — 30 человек в Риге, около 50-ти — во Львове, а в 1970-е гг. влияние хиппи-культуры на молодежь увеличилось, и все больше людей присоединялось к движению. Они расширяли связи с другими городами, и вскоре образовалось сообщество людей с собственной культурой и взглядами. Они слушали другую музыку, которая сыграла очень важную роль. Это была музыка некоммерческая, а группы исповедовали образ жизни — Doors, Дженис Джоплин, Джими Хендрикс, Нейл Янг и другие. Правда, были люди которые перенимали только внешние атрибуты: длинные волосы, широкие брюки, «фенечки» — их превлекал сам романтизм движения.
Не зря первые хиппи-тусовки возникли в Риге и Львове — городах, расположенных вблизи границ СССР. До них быстрее доходили западные журналы и пластинки. Были, естественно, хиппи и в Москве и Ленинграде. В Москве в основном тусовались на улице Горького, которую стиляги именовали «Бродвей», а хиппи называли просто «стрит». Там с конца 1960-х можно было постоянно увидеть длинноволосых парней и девушек с самопальными бусами и значками, сделанными из фотографий любимых групп. И если существование хиппи в столице не кажется странным — все-таки до Москвы информация из-за «железного занавеса» доходила через дипломатов, приезжавших иностранцев, выезжающих за рубеж артистов и спортсменов, — то окраинные тусовки были своего рода феноменом.
Из интервью Алика Олисевича:
До 1971 г. Львов был своеобразной Меккой хиппи. В 1976 г. во Львове мы организовали первый рок-фестиваль, настоящий братский мини-Вудсток: окло 100 хиппи съехались сюда, включая хиппи из Росси и Прибалтики. Происходило все в Святом Саду — сад действующего монастыря Кармелиток Босых — знаменитом месте в Львове, где в 70-е годы собирались хиппи. Затем в 1977 г. приехали 300 человек отметить день памяти Джими Хендрикса. Но провести мероприятие не удалось — «сейшн» наметили на 18 сентября, а 17 сентября был социалистический праздник воссоединения Западной Украины и Восточной, и около 500 человек, собравшихся на «сейшн» из разных городов СССР, были арестованы по подозрению в срыве праздника.
Вообще, оценить количество хиппи в СССР довольно сложно. Ясно, что никаких соцопросов и чего-то подобного не было. Сами же люди из хиппи-тусовки часто приводят довольно небольшие цифры.
Из интервью Геннадия Зайцева:
Примерно до 1975 года их количество колебалось от 10 до 20 человек по городу (Ленинграду — В. К.). Самый благодатный период для хиппового движения — 1975-1978 гг. Количество хиппи варьировалась в зависимости от прессинга со стороны властей, и в самый жесткий год, 1980-й, в Питере, составляло всего пять человек.
В 1970-е годы местом паломничества советских хиппи становится Таллинн. Рассказывают, что у одного из костелов, рядом с кафе «Пегас», было место, прозванное «Горка», на котором летом собиралось до нескольких сотен хиппанов со всей страны. А на рок-концерты, которые в Прибалтике — в отличие от почти всей остальной страны — не запрещались, собирались по нескольку тысяч человек.
Постепенно в Советском Союзе образовалась целая сеть хипповских коммун, подпольных «флэтов», на которые мог вписаться хиппи, приехавший из другого города. Основным их способом передвижения по стране был автостоп. В теплые месяцы тысячи хиппи со всего Союза устремлялись в Крым. Музыкальный критик Артемий Троицкий вспоминает в своей книге «Рок в СССР», что в Ялте был рынок, где хиппи торговали одеждой, пластинками и «фенечками», и там же существовало множество временных — «летних» — коммун, располагавшихся чуть ли не под открытым небом. Зарабатывание денег никогда не являлось чем-то важным для советских хиппи. Многие жили «чем бог пошлет», не считая зазорным выпрашивание денег у прохожих. Для обозначения этого они изобрели специальное словечко «аскать» (от английского слова «ask» — «просить»), и некоторые хиппаны стали настоящими профессионалами «аскания».
Советские хиппи называли свою тусовку «системой». Говорят, что слово это появилось в Питере, но прижилось потом и в Москве и других городах. В этом названии есть свой парадокс: ведь с контркультурных позиций «системой» как раз является государственно-общественная машина, в оппозиции которой находятся нон-конформисты.
Хиппи, как носители неофициальной, контркультурной идеологии активно контактировали с интеллигенцией и богемой, с религиозными кругами. Идеологический пресс заставлял всех, кто в той или иной степени выпадал из социалистического «мейнстрима», искать контактов друг с другом.
Вокруг «системы» и внутри нее находилось много творческих людей — писателей, поэтов, художников, музыкантов. Практически с начала 1970-х хиппи-тусовка пересекалась с рок-тусовкой, и многие ранние группы советского рока имели тесный контакт с «системой» как единственной в то время андеграундной творческой средой. В хипповских кругах ходят и легенды о том, что даже криминалы относились к ним с уважением: они, как и «воры в законе», не имели ни имущества, ни прописки, ни семьи. Впрочем, на этом сходство заканчивалось.
Сегодня об идеологии советских хиппи написаны целые исследования и трактаты. Читая их, человек, не имевший отношения к «системе», может представить себе идиллическую картину: люди, посвящают жизнь творчеству и духовному поиску, их главная ценность — любовь, а один другому — «друг, товарищ и брат». Почти коммунизм, но с обратным знаком. В реальности все не всегда было так замечательно. Во-первых, советская система старалась подавлять все идеологически чуждое, включая и хиппи-тусовки. Пусть в ГУЛАГ уже не отправляли, но в психушку можно было запросто угодить. Во-вторых, «духовный поиск» был главным далеко не для всей тусовки. Кто-то просто пьянствовал и пользовался преимуществом «свободной любви».
Из интервью Сергея «Айм Сори»:
Когда в отношении «системы» употребляют слова «идеология» или «философия», я прямо корчусь. Мы просто жили по триаде «секс, драгс, рок-н-ролл». Только «драгс» можно заменить на всеобъемлющее слово «кайф». Мы ни с кем не боролись — это с нами боролись…
Советский протест
Но бывало и по-другому. Рассказывают об антивоенных демонстрациях, организованных хиппи в начале 1970-х. Точной информации о них нет, все построено на воспоминаниях очевидцев. Говорят, что московские хиппи провели демонстрацию 1 июня 1971 года, в Международный день защиты детей, у американского посольства — протестуя против войны во Вьетнаме. Этим они не только подтвердили идеологическую близость своим заокеанским коллегам, но и фактически ничем не противоречили официальной советской идеологии: пресса в СССР неоднократно поливала грязью «американский империализм» за его «агрессию против свободолюбивого Вьетнама». Вспоминают, что у посольства собралось несколько тысяч человек, но завершилось все печально, потому что в СССР протестовать можно было только организованно и «под руководством партии и комсомола». Демонстрацию разогнали, участников повыгоняли с работы или из вузов, а кое-кого даже сдали в «дурку».
В августе того же года демонстрация хиппи прошла в белорусском приграничном городе Гродно. Причем, если верить рассказам о ней, все было гораздо круче, чем в Москве: протестовали уже не против «империализма», а против притеснений самих хиппи. Рассказывают, что около сотни молодых людей с длинными волосами, одетых в цветные рубахи и джинсы-клеш, вышли с плакатами «Руки прочь от длинных волос», «Прекратите террор», «Свободу рок-н-роллу», «All you need is Love» на центральную улицу. Ясно, что советская пресса ни о чем подобном писать не могла, и открытых документальных свидетельств того, что в августе 1971-го происходило на Советской площади в Гродно, нет.
Через несколько дней похожая демонстрация вроде как состоялась и в Вильнюсе. Говорят, что вильнюсские хиппи вышли с плакатами в защиту гродненцев на площадь у башни Гедимина, в центре города. Документов, подтверждающих эту акцию, тоже нет, но и на пустом месте такие легенды не создаются.
Есть еще легенда о массовой манифестации в Ленинграде в 1979 году, когда там прошел слух о концерте Карлоса Сантаны и группы «Би Джиз» на Дворцовой площади, который якобы отменили в последний момент. Рассказывают, что по Невскому проспекту шли несколько сотен человек, в том числе хиппи.
Была ли советская хиппи-тусовка реальной оппозицией «совку»? На каком-то уровне — да. Но «система» не являлась политическим движением, не готовила революцию против существующей власти. В какой-то степени она помогала выжить человеку с творческими амбициями, который не хотел — или не мог — их реализовать в официальных структурах.
Движение хиппи неизбежно ассоциируется с наркотиками. От наркоманских ярлыков субкультуре никуда не уйти: еще в 1960-е был провозглашен лозунг «Sex, Drugs & Rock’n’Roll», и в культуре хиппи психоделики и трава всегда занимали особое место. В СССР было несколько по-другому. Психоделики были не так доступны, а трава не так распространена. И поэтому, когда некоторые из хиппанов 1970-х говорят сегодня в интервью, что к наркотикам близко не подходили, этому можно верить. Хотя наркотики в хипповой «системе» советских времен однозначно присутствовали, как и алкоголь, отчасти компенсирующий их нехватку.
Из интервью Геннадия Зайцева:
Изначально в Москве преобладал лозунг «Sex, Drugs & Rock’N’Roll», а в Питере — «Love, Peace, Freedom, Happynes». И любовь в Питере понимали как Всеобъемлющую — в Москве также, но в большей степени как плотскую. В Питере было строгое разделение на хиппи и наркоманов. Хиппи либо не допускали, либо выдавливали последних из своего окружения, поскольку считалось, что Движение и наркотики — вещи абсолютно невзаимосвязанные. Наркомания существовала со времен Египта и американских индейцев, а наше Движение возникло в середине 60-х.
Как и в любой субкультуре, в хиппи-тусовку входили и «идейные» хиппаны, и «позеры», люди, которых привлекала внешняя атрибутика. Люди из «системы» объясняют увядание движения в 1990-е годы тем, что в какой-то момент «левых» стало намного больше, чем «идейных», многие из которых к тому же эмигрировали. «Система» оказалась захвачена популистским, люмпенским элементом. Возможно — подобные вещи происходят в любой субкультуре.
Но были и другие причины — довольно банальные. «Протестное» движение ослабевает, когда у него не остается против чего протестовать. Распад СССР и обвал советской идеологии «отняли» у хиппи объект их духовной оппозиции. Все стало можно. Ну и вдобавок, сама идеология за тридцать лет заметно потеряла актуальность. Какая «цветочная оппозиция» в мире, который стал куда более жестким и циничным, чем в конце 1960-х?
Движение хиппи в России не имело — и не могло иметь из-за коммунистического строя — такого значения, как на Западе, где благодаря хиппизму поменялось отношение общества ко многим вещам: от свободной любви до здорового питания. В СССР хиппи вынуждены были существовать в андеграундном гетто, и влияние субкультуры ощущалось только на уровне музыкально-артистической тусовки. К тому времени, как хиппи и прочие субкультуры вышли из подполья, многое изменилось в обществе, и их идеи уже воспринимались по-другому — не так свежо и актуально, как двадцать лет назад.
При этом в СССР хиппи-тусовка оказалась живучей. В нее приходили новые поколения, а старые «хиппаны» уходить не собирались. В отличие от Америки, где б[о]льшая часть бывших хиппи прекрасно встроилась в общество — слегка изменившееся под их влиянием, — в СССР вариантов было гораздо меньше. Или ты «завязывал» с хипповыми идеалами и становился нормальным советским гражданином, или оставался в глубоком андеграунде, вел «антисоциальный образ жизни», постоянно подвергался репрессиям со стороны официальных органов и рисковал попасть под суд за «тунеядство».
Стиль
Основной одеждой хиппи являются джинсы. Расклешенные внизу, они — вместе с психоделическим роком, наркотиками и сексуальной революцией — стали символами хиппи-культуры. Их носили и советские хиппи, а отсутствие импортных джинсов в магазинах компенсировалось самопальными, сшитыми отечественными умельцами.
Кроме этого, к стилю хиппи принадлежали «психоделические» самокрашеные майки — «tie dyed». Их красили, завязав узелками, в результате чего получались всевозможные «психоделические» узоры.
Еще одна неизбежная деталь облика хиппи — длинные волосы, «хаер». Несмотря на гонения на «волосатых», для парня-хиппи отращивание волос было нормой. Особой деталью стиля хиппи были «фенечки» («феньки») — браслеты ручной работы из бисера, ниток или кожи. Происхождение этого слова — загадка. Некоторые считают, что это искаженное английское «thing» — «вещь, штучка».
Изначально фенечка была заимствована американскими хиппи у индейцев и использовалась как символ дружбы — после обмена фенечками хиппи считались названными братьями. В меньшей степени этот обычай существовал и у советских хиппи.
Место в культуре
Хиппи стали героями немалого количества фильмов и книг. Романы «На дороге» Керуака и «Электро-прохладительный кислотный тест» Вулфа, фильмы «Беспечный ездок» и «Забриски-Пойнт» давно считаются культовыми и предствляют собой отдельную тему.
В России можно упомянуть фильм Артура Аристакисяна «Место на земле» о хипповской коммуне, а также распространяемый в Интернете под псевдонимом «Крот» текст «Сага о Системе». Существуют и артисты, пропагандирующие хиппи-культуру. Самый яркий из таких примеров на российской андеграундной рок-сцене — группа «Умка и Броневичок» во главе с певицей Анной Герасимовой по прозвищу Умка.
Сегодня нельзя говорить, что в России — да и во всем мире — движение хиппи ушло в небытие. Пусть и немногочисленные, отечественные «дети цветов» все еще существуют. Более того, к выжившим первым советским хиппанам, достигшим уже пенсионного возраста, добавляются время от времени и совсем юные парни и девушки, привлеченные теми же идеалами и эстетикой. Процесс, в общем, естественный: если сегодня находятся молодые люди, которые слушают старые группы, давно уже не «модные» и не «актуальные», то будут и те, кого привлекут идеи почти уже забытых субкультур.