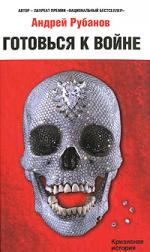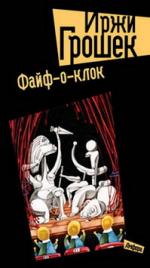Кризисная история от Андрея Рубанова
Отрывок из нового романа
- Эксмо, 2009
- переплет, 352 с.
В глубине души Знаев предполагал, что рыжая,
узрев сокровища, будет ахать, дрожать или, еще хуже, восторженно восклицать
«вау» — но она реагировала сдержанно, смотрела внимательно, с интересом, однако
без признаков экстаза, и это его обрадовало и одновременно озадачило — как
всегда озадачивает любого мужчину женщина с большим самообладанием.
— А чем тут пахнет? — спросила она.
— Деньгами.
— Говорят, они не пахнут.
— Еще как пахнут. Типографской краской. И
мажутся. Особенно — доллары. Я один раз пересчитывал вручную семьсот тысяч —
потом еле отмыл пальцы. Американские деньги — вообще безобразного качества.
Взгляни, вот новая пачка. Все по номерам. Видишь, одни купюры чуть короче, другие
чуть длиннее, поля здесь шире, тут — гораздо уже… Халтура, а не банкноты.
— Я бы не отказалась и от таких, халтурных.
Знаев не ответил — он не любил, когда
собеседники отпускают подобные присловья, уместные только в среде медленных
обывателей.
— Взгляни, — произнес он. — Интересная цепь.
Трехцветная. Белое, желтое, красное золото. Храню на память. Очень интересный
был случай. Девяносто шестой год. Позвонил знакомый, говорит — нужна помощь.
Приедут люди — выслушай их. Ладно, отвечаю. Подъезжают четверо. На «Мерседесе».
Как тогда говорили — «серьезные». Срочно, говорят, прямо сейчас, не сходя с
этого места, нужны деньги, как можно больше. Времени, говорят, у нас — десять минут
от силы. О’кей, говорю, у меня все будет очень быстро. Сняли они с себя цепи с
крестами, браслеты, печатки… Золотые портсигары вынули. Золотые зажигалки. Зажимы
с галстуков отстегнули. Все — ручной работы, на заказ сделанное. Тогда, в
девяносто шестом, у каждого отважного мужчины свой ювелир был, как сейчас —
свой туроператор… В общем, все сняли. Общим весом почти три кило вышло. А
сверху кинули ключи от «Мерседеса», на котором приехали. Я машины в залог
никогда не брал, но в тот раз пошел навстречу. Понял, что у пацанов стряслось
особенное. Взяли они деньги, распихали по карманам, на побрякушки свои и тачку
даже не взглянули на прощание. И ушли. Пешком. Быстрым шагом. В сторону ближайшего
метро. Я их больше никогда не видел. И того знакомого, что их порекомендовал, —
тоже…
Алиса молча покачала головой. Знаев подошел к
следующей полке.
— А вот еще. Хорошее колечко. Камешек не менее
чем в шесть каратов. Жаль, тут неважное освещение. На солнце сверкает — глаз
нельзя оторвать… Человек отдал мне это кольцо чуть ли не вместе с пальцем.
— Со своим?
— Нет. С пальцем бывшего владельца.
— А где он сейчас?
— Кто? Владелец?
— Тот, кто принес.
— В тюрьме, я думаю. Прибежал впопыхах, взял в
долг двадцать штук, сказал, что, наверное, подсядет, ненадолго, на
годик-полтора… И пропал. Это было семь лет назад.
— А вдруг его уже… в живых нет?
— Может, и нет, — спокойно сказал банкир. — А
может, он завтра заявится. Мое дело — спрятать надежно, дверь поставить потолще
и отдать по первому требованию. Видишь эти кирпичи? Здесь двести тысяч баксов,
по сто тысяч в брикете. С печатями Независимого Банка России. Такого банка нет
в природе уже почти пятнадцать лет. Нетипичный был случай — пришли трое
чуваков, взяли безналичные рубли под залог наличных долларов… Тоже очень
спешили. Бестолковых людей сразу видно, они всегда спешат…
— Ты тоже.
— Нет, — мягко возразил Знаев, — я никогда не
спешу. Я все делаю быстро. Согласись, есть разница… В общем, через неделю из
тех троих двоих убили. Отстрелили затылки. Третий — пропал без вести. Причем,
как сейчас помню, именно ему, третьему, я отдал — в руки сунул! — квитанцию о
том, что ценности приняты на хранение. Думаю, именно он и заказал своих
компаньонов. С тех пор я его жду. Может, придет. А он, я так предполагаю,
боится. Квитанция — улика. Мотив, понимаешь?
Девушка рассеянно кивнула. В своих
обтягивающих тоненьких джинсиках, в маечке на бретельках, с распущенными по
плечам волосами она смотрелась несколько легкомысленно среди полок со слитками
золота и металлических подносов, уставленных брикетами купюр, а также разных
размеров шкатулками и ящиками с тускло отсвечивающими висячими замками.
— И много здесь у тебя такого? Что лежит по
десять лет?
— Немного. Думаю, примерно на миллион. Гораздо
больше — на счетах.
— В смысле?
— Ты должна понимать. Ты же сама здесь
работаешь. Представь: приходит человек в мой банк, открывает счет. Туда
перечисляет деньги. А потом человек пропадает. Умирает, забывает, эмигрирует.
Бизнес все время в движении. Люди создают фирмы, работают, поднимаются, падают,
зарабатывают, теряют, ударяются в бега, ссорятся с компаньонами. Кидают,
мошенничают, воруют у своих.
в мой банк, — потом обанкротился, битой по голове получил, из реанимации вышел,
офис сжег, документы и печать в прорубь выкинул, а деньги — черт с ними, еще
заработаю… Бывает, приходят. Через три года, через пять. Через десять. Где
тут мои кровные, в целости ли? В целости, конечно, вот вам, забирайте… А
бывает — и не приходят.
— Какие-то древние, — задумчиво сказала Алиса,
— у тебя истории. Времен дикого капитализма.
Банкир кивнул. В свои годы он давно
чувствовал себя динозавром.
— Согласен. Сейчас все иначе. В последние
пять-шесть лет с кредитными ресурсами стало попроще. Да и люди за ум взялись.
Многие. Но не большинство. Лично я давно прекратил ростовщические операции.
Дело выгодное, но, если честно, совершенно омерзительное. Поймает дурак деньги
— и тут же сходит с ума, кабриолет себе покупает, цацки и прочую ерунду. О
будущем, разумеется, не думает. Вдруг
какая-нибудь, уголовное преследование, или родственник заболел, возникает нужда
в наличных — а их, естественно, нет. Никто ничего на черный день не
откладывает. Прибегают ко мне, в долг брать — и смотрят, как на врага народа.
Процентщик! Барыжная морда! — Знаев припомнил кое-какие подробности кое-каких
деловых бесед и почувствовал отвращение. — А я тут ни при чем. Я банкир, это
мой хлеб… Вот тут, посмотри, рисуночки. Им по сто пятьдесят лет. Один такой рисуночек
в Лондоне недавно продали за сорок пять тысяч фунтов. Владелец шедевров уехал
по Амазонке сплавляться, а ценности ко мне привез, от греха… И, кстати, тут
надолго уезжает, все сюда сдает, на хранение…
— Твоего друга, — аккуратно поправила Алиса.
— Что?
— Твоего друга Жарова. Не моего.
— И твоего тоже, — сурово сказал банкир. — Он
тебе звонит, он с тобой шутки шутит — значит, друг…
— Прекрати.
— Ладно. Хочешь посмотреть на драгоценности
его жены?
— Нет. Не хочу.
— Понятно. Кстати, очень средненькие камешки.
У меня есть интереснее. Тут
середина девятнадцатого века, такую огранку сейчас не делают…
— Это не сейф, а музей.
— Это банк, — сказал Знаев. — Мой банк. У тебя
образование экономиста, ты должна знать, что банки условно делятся на два
типа… Какие?
Алиса пожала плечами.
— Что, не помнишь? У тебя ведь были пятерки по
всем предметам, я видел твой диплом…
— Можешь считать, что мне стыдно.
Знаев тяжело вздохнул.
— Банки бывают инвестиционные и
сберегательные. Сначала я хотел делать инвестиционный банк. Очень хотел. Я
молодой был. Быстрый. Очень. Не спал неделями. Все собирались с силами — а я
уже делал. Все боялись — а я лез башкой вперед. Никто ничего не знал — а я знал
все. Как, где, почем, у кого какой интерес — все! Мечтал играть на фондовой
бирже. Андеррайтинг, арбитражные сделки и так далее. Видел себя таким Майклом
Милкеном. Или Иваном Боэцки. Даже их портреты повесил. Вырвал из книжки «Алчность
и слава Уолл-Стрит»… Очень меня это увлекало. Акции, графики, технический
анализ. Быки, медведи. Внизу купил — вверху продал, прибыль зафиксировал и вывел
на Каймановы острова… Нет и не будет на белом свете ничего интереснее, чем
покупать и продавать деньги. А потом… — Знаев подбросил в воздух запаянные в
пластик сто тысяч, — потом оказалось, что наша родная фондовая биржа — совсем
не Уолл-Стрит. Когда я начинал, в девяносто втором, народ там в основном в
буфете зависал. Ведущий вел торги и периодически покрикивал: «Потише там, в
буфете!» Однажды я посмотрел на их самодовольные нетрезвые морды и решил, что
ноги моей больше не будет в этом бардаке. И потом уже строил банк строго
сберегательный, по швейцарскому образцу. Небольшое предприятие, для своих.
Бронированный подвал, минимум персонала, вся крупная клиентура замыкается сразу
на меня…
— Послушай, — напряженным голосом, но вежливо,
перебила рыжая. — Скажи честно, зачем ты меня сюда привел?
Знаев несколько смешался.
— Я думал, тебе будет интересно. Ты ведь не
каждый день видишь перед собой одиннадцать килограммов червонного золота? С
клеймами государственных банков восьми стран?
— Нет. Не каждый день.
— Ах, «не каждый». Понятно.
— Ты не боишься?
— Чего именно?
— Мы едва знакомы. Ты не боишься показывать
мне все это?
— Нет, — мгновенно ответил банкир. — Не боюсь.
— Я могу кому-нибудь проболтаться.
— Ты не проболтаешься.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю, — сказал Знаев. — Я давно решил, что
ты обязательно должна все посмотреть.
— Давно — это когда?
— В четверг, — еще быстрее отреагировал
банкир. — Около трех часов дня. Когда первый раз тебя увидел. Как увидел — так
сразу и решил. Вот, думаю, именно ей я покажу, ради чего полжизни угробил…
— Зачем? Зачем я должна видеть то, ради чего
ты потратил полжизни?
Как ей объяснить, лихорадочно подумал он. Я
что, выбрал не ту обстановку?
может быть лучше, чем объясниться с женщиной в собственной сокровищнице?
Остается только подобрать точные слова. Сформулировать, чего я хочу.
Вот только одно плохо: я даже сам себе еще
ничего не сформулировал.
— Видишь ли… — Он прокашлялся. — Здесь
сосредоточено все самое дорогое. Плоды усилий. Не только моих. Тысячи людей
много лет работали, мучились, страдали, ночами не спали… Воровали и
обманывали… умирали… убивали других… Ради того, чтоб обратить свои
страсти вот в это.
Он обвел руками полки.
— Теперь это все доверено мне. Это — ГРУЗ. Я
его тащу. Мне тяжело…
Не то, не то! — пролетело в голове. Ты что,
собираешься ей жаловаться? Она живет в квартире с окнами на помойку, она тратит
три часа в день на дорогу до работы и обратно — а ты, благополучный, обитатель
поместья в пять гектаров, привел ее в свои закрома, набитые золотом, и теперь
намерен жаловаться?
— Извини, — сказал он тихо. — Наверное, мы зря
сюда пришли.
— Ты хотел
— Я все сказал. Пойдем. Здесь низкий потолок.
Я не люблю низкие потолки.
— А что ты любишь? — спросила рыжая, не
трогаясь с места.
Знаев с ненавистью оглядел богатства.
— Наверное… я должен сейчас сказать, что я
люблю — тебя. Но это будет не совсем честно. Я черствый, я почти ничего не
чувствую. Мне сорок один год. Я — опасный сумасшедший. Видишь — ты не
возразила! Значит, уже поняла… Я безумец, Алиса. Богатый и очень энергичный.
Я сказал бы тебе: «Будь со мной», — но я так не скажу. Боюсь. За тебя. Я уже
изуродовал жизнь одной хорошей женщине. С тобой может произойти то же самое. Ты
мне нравишься. Ты меня полностью устраиваешь. Ты молодая, веселая, умная. С
тобой легко. Я бы хотел… — Банкир окончательно смешался. — Очень хотел… Но
не могу. Вернее, могу, но не буду… мне без тебя плохо. Не то чтобы плохо, мне
всегда не плохо и не хорошо, а так… Я ж богатый, я в порядке… Но с тобой
мне гораздо лучше, чем без тебя…
Алиса улыбнулась очень доброй,
благожелательной улыбкой.
— Я все поняла. Успокойся. Пойдем. Договорим
потом. Мне тоже тут немного не по себе… Смотри, в полу трещина.
— Знаю, — сказал Знаев. — Тут плохой грунт.
Болото. Вся Москва стоит на болоте. Мой подвал тонет. Со скоростью три
миллиметра в год. Инженеры говорят — нельзя ничего поделать. Через пять лет
придется все перестраивать…
— Ты загадываешь на пять лет вперед?
— Раньше не загадывал, — сказал банкир. — А
сейчас оно
Без путчей и дефолтов… Человек не может жить одним днем. Ему обязательно
нужно строить планы. Хотя бы на пять лет.
— У тебя явный пунктик насчет потолков.
— Почему «пунктик»? — обиделся владелец
подвала, наблюдая, как дверь весом в тонну встает на свое место. — Высокие
потолки — это очень серьезно. Год назад я был в Сарагосе, в крепости
Алхаферия… Осторожно, не споткнись… Внутри крепости есть дворец, где
принимали посетителей испанские короли. Широкая лестница, за ней — комната для
ожидания. Так и называлась: «зал бесполезных шагов». Визитеры, как ты
понимаешь, в ожидании аудиенции нервничали, бегали из угла в угол… Красивая
комната, очень просторная, потолок резной, в орнаментах… А потом — я же
сказал, осторожно, ступеньки крутые! — гость попадал непосредственно в зал для
аудиенций. Он — в три раза больше, и потолок там — в два раза выше. Тоже
резьба, орнамент — но в два раза выше! То есть в приемной потолок специально
низкий, а в зале — высокий. Чтоб гость проникался масштабом, понимаешь?
— Понимаю…