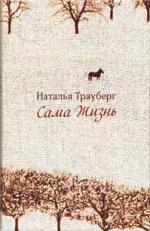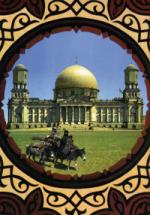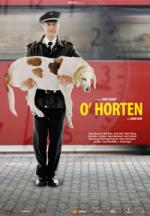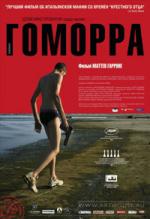Часы остановились
Премии Андрея Белого исполнилось 30 лет. Хватит?
Мне многажды доводилось называть Премию Белого «лучшей» и «главной»; основания для такой оценки, собственно, налицо и сейчас.
Во-первых, это «экологически чистый продукт»: премия возникла при самиздатовском журнале «Часы» для моральной поддержки неподцензурной словесности.
Во-вторых, у нее внятная и славная концепция — отмечать «инновационную» литературу.
В-третьих, хотя состав рулящих неоднократно менялся, премию практически всегда присуждали (и присуждают) люди вменяемые и высокопрофессиональные, чего ни об одной другой отечественной литературной награде сказать невозможно.
Кривулин, Драгомощенко, Гройс — три первых лауреата, ангела-храни-теля проекта: эти имена задали планку, и, хотя серенькие присуждения бывали, куда без них, низко планка никогда не опускалась.
В последние годы, однако, решения белого комитета (жюри так называется) все чаще вызывали недоумение. Я его публично не высказывал: «родную» (я не только давний поклонник «Белого», но и недавний лауреат) премию шпынять не хотелось. Но сегодня совпали два повода: присуждение, во-первых, юбилейное, а во-вторых — какое-то запредельно нелепое.
Сплошные заслуги
Бесспорна одна позиция: труд, свершенный переводчиками и издателями первого большого русского издания Целана. Остальное сильно смущает. Нет особых сомнений в квалификации пушдомовского академика Лаврова, но что же новаторского в его в высшей степени традиционалистских трудах? При чем тут Андрей Белый?
Вопрос лукавый: понятно при чем. Белый — герой Лаврова, а у премии юбилей, а решение символическое. Ладно, в честь юбилея можно и символическое. Но ведь тут тенденция: скажем, не так давно лауреатом «гумисследований» стал Роман Тименчик с толстой книжкой про Ахматову. Книжка хорошая, набитая материалом, как гранат вкусными алыми штучками. Одна незадача: в ней нет интеллектуального усилия, «соображений», а есть лишь родосская усидчивость: надо же столько переписать (да если и отсканировать) чудных советских цитат из «Литературной газеты». Поклонники Тименчика объясняют, чего в цитатнике новаторского: вот сколько, дескать, комментариев, больше, чем основного текста, так одно в другое хитро переходит, что непонятно, что чего комментирует. Современно! Примерно такими же словами я пиарил роль комментария в постмодернизме на страницах той же «Литгазеты» в начале девяностых годов. И уже тогда понимал, что не так уж оно и современно, что прием этот двадцатым веком использован уже как следует во все щели. А уж считать это современным сегодня… Вот именно что без комментариев.
Вот вовсе вопиющий пример: в шорт-лист текущего года записали очередной том еще более трудолюбивого Евгения Добренко. Спора нет, его многостраничные исследования из года в год «вводят в оборот» тонны (хотел написать разнообразных, но одумался) советских материалов. Но нет и спора, что работает Добренко в соответствующем своему предмету жанре соцреалистического бу-бу-бу, а на новаторство и сам не претендует.
В «прозе» победил Александр Секацкий, священная петербургская корова. Секацкий и для меня корова, и, увидав шорт-лист, я прежде всего удивился, что Секацкий до сих пор белой премии не имел. Видимо, тому же удивились и решили опомниться члены комитета. Полупрозу, подобную победившей (пусть и не в жанре романа), Секацкий сочиняет давно, мог быть премирован за нее эн лет назад (как и за философию — по гуманитарной номинации). Ощущение, что Секацкому просто отдали старый долг. Ничего, может, дурного, если забыть, что в шорт-листе присутствовали без малого гениальные и именно что остросовременные тексты Линор Горалик и Андрея Сен-Сенькова. Напомню, что свой авторитет Премия Белого заслужила именно умением углядеть новое в новом, награждениями грядущих, а не состоявшихся классиков.
«Поэзию» на сей раз поделили. Основным лауреатом представляется православный декадент Сергей Круг-лов, и «православный декадент» тут не ирония, а попытка в двух словах представить стиль этого действительно великолепного автора. Но к нему почему-то решили пристегнуть Владимира Аристова, человека достойного, поэта заслуженного и «состоявшегося» уже эдак с четверть века назад. На Аристова, как и на Секацкого, ворчать не станешь, если не заметить, что даже в шорт-лист не попала Алла Горбунова, самая яркая дебютантка последних лет. Вообще, «делить» премию без крайней необходимости — признак слабости жюри. А какова была крайняя необходимость? Верно: больше ведь не будет повода дать Аристову, а надо бы дать!
Таким образом, почти все (исключая Круглова) премии-2008 вручены за так или иначе понятые «заслуги», за выслугу лет, за правильные глаза. Для работы комитета это — стыдный провал. А для премии — знак глубокого кризиса?
Девальвация эксперимента
Есть концептуальный затык: что ныне считать новаторством? (В этой главке я буду рассуждать только о «худле»: за свежими гумисследованиями давно не слежу, остановившись где-то на «новом историзме».)
Новаторство в литературе — это либо окно, прорубленное ловким ударом сразу в область Чистого Духа, он же Бездна (аналог в изобразительном искусстве — «Черный квадрат»), либо «эксперимент». Про Чистый Дух опытным путем догадались, что ловко — не прорубается. «Волшебного слова» не существует: не проканали ни символистские пурпурные затененные сверхвоссиянности, ни крученыховские дырпырщуры. Чистый Дух достигается долгим тяжким трудом в самых что ни на есть традиционных формах. Взять Дона Хуана с его Кастанедой: тщательная погоня за Чистым Духом оформлена в седом жанре незамысловатого репортажа.
Что касается «эксперимента», то он просто конечен, как спички в коробке. Если вновь сравнить с артом, невозможно радикальное искусство, ибо попробовали уже все: и говно ели, и мальчика в живот целовали. То же и с литературными выкрутасами: фокусничество имеет, похоже, предел. Тем более нынче, когда к свободному формотворчеству присоединились миллионы интернет-пользователей, в принципе не скованных представлениями о традиционных-нетрадиционных формах. Если иной белый номинант, выписывающий в стишок газетные заголовки (желательно без запятых и прописных букв), полагает, что занят творчеством, то делающий то же самое блоггер просто разлекается, и у него потому выходит занятнее.
Была такая побасенка: если многим обезьянам дать многия пишущыя машины, то рано или поздно одна из них напечатает «Войну и мир».
Результат есть, хотя и в младших жанрах. Фразы «Афтар жжот», «Первый нах» и «Тема ебли не раскрыта» — они же появились «по ходу» и по приколу, вне зоны литературных амбиций. Тем не менее они именно литературно великолепны: по ритму, точности, по истинно пушкинской легкости. Скажем, у хорошего писателя Пелевина фраз такого уровня нет.
Я это не к тому, что «новое» невозможно. Вот поэт Родионов — «новое»? Вроде как да. Что он делает? Он орет рэп про приключения пьяных мудаков на московских окраинах. Ингридиенты все ветхие (желтая кофта с синей блузой, интерес к судьбе маленького чела), а результат вполне инновационный.
Запомнилась (цитирую по памяти) хорошая фраза Ильи Кукулина, что в «новом» интересен не сам эксперимент, а стоящие за ним поиски жизнеспособных модусов конкретного человечьего бытия. Тот же Родионов, разумеется, не «новое» делает, а чисто интересуется живыми окровавленными модусами. Но в самом «духе» Премии Белого велика как раз идея эксперимента, башни из слоновой кости, авангардного жеста, причудливого коктейля «серебряного века» с андеграундом семидесятых. Очевидно, дух премии вступает в противоречие с духом эпохи. И проект буксует.
Недавно один из нынешних руководителей премии сообщил, что актуальным для «Белого» сейчас является противостояние рыночному мейнстриму. Тоже такое высказывание… о многих концах. Я понимаю, что давать «нашу» премию Акунину — дело избыточное, но, положа руку на сердце, а член на жопу (как удачно выразился кто-то из безымянных сетевых шутников), Акунин — куда больший новатор, чем недавние прозолауреаты Юрий Лейдерман и Эдуард Лимонов. И вполне себе новаторский роман Павла Крусанова «Укус ангела» — самое коммерчески успешное его произведение.
Зеркало треснуло
Когда пишут о премии, всегда сообщают, что материальный ее фонд — 1 рубль (плюс еще водки наливают и яблоко дают). Фонд рубль, а авторитет — огого! Но вот утек куда-то, кажется, этот самый легендарный авторитет. Решения уходят в песок. О Премии Андрея Белого перестали появляться аналитические статьи. То есть — совсем. В лучшем случае газеты дают список лауреатов: с одной стороны, их можно понять, широкий читатель не знаком со словосочетанием «Сен-Сеньков»; в былые годы, однако же, хотя бы минимальные комментарии появлялись.
Еще грустнее, что работа премии не обсуждается в блогах социально близких граждан, заинтересованных лиц. В среде распространения авторитета. Это ведь вовсе кранты. Узколицый Неврастеник переживает за «Букер» и «Большую книгу», как за собственную таксу, а о Белом — молчок. Радужный Культуртрегер язвит по поводу одной там новообразованной премии, а о Белом ни звука. Жизнерадостный Волосатик остроумно шутит про Круглова и Аристова: им по 50 копеек и по пол-яблока!
Да и сами организаторы будто не совсем всерьез относятся к своему детищу. У премии, скажем, нет своего сайта; «вэб-представительством» является страничка в «Журнальном зале». Можно и так, разумеется. Но в отчетном году на этой страничке не только шорт-листа не выкладывали, не только положения и состава комитета там нет — там и итогового решения не появилось. На официальной страничке!
Что же получается — наигрались?
Что делать?
Вопрос, как всегда, самый сложный. Прикрыть лавочку в честь 30-летия, красиво уйти «непобежденными» — выход разумный, но не самый интересный. Интереснее, конечно, реорганизация, перезапуск-переформатирование, но не знаю, насколько комитет понимает необходимость перемен.
Во всяком случае, белой затее следует иметь в виду, что у нее могут появиться конкуренты: другие премиальные проекты, ориентированные на новаторство, нерыночность, неформатность и пр. Одна такая премия, в общем, уже возникла (пока предельно нелепая, но, возможно, только «пока»). Проект другой мне самому довелось недавно обсуждать — в пьяной компании и безответственно; ветер, однако, дует в ту же сторону. Не сомневаюсь, что этими двумя легкомысленными примерами дело не ограничится.
Время, сцуко, не умеет стоять стоймя.

Премия Белого-2008
«Проза»: Александр Секацкий, роман «Два ларца, бирюзовый и нефритовый»
«Поэзию» поделили книги Владимира Аристова «Избранные стихи и поэмы» и «Зеркальце: Стихи 2003-2007 гг.» Сергея Круглова
«Гуманитарные исследования»: Александр Лавров, «Андрей Белый. Разыскания и этюды»
«За особые заслуги в развитии русской литературы»: Татьяна Баскакова и Марк Белорусец, составители и переводчики тома Пауля Целана «Стихотворения. Проза. Письма»