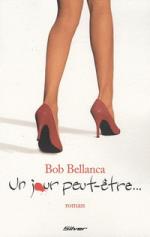Несколько рассказов из книги
О книге Сергея Шаргунова «Книга без фотографий»
Тайный альбом
Фотографии не оставляют человека. Всю
жизнь и после смерти.
Кладбище — фотоальбом. Множество лиц,
как правило, торжественных и приветливых.
Едва ли в момент, когда срабатывала вспышка,
люди думали о том, куда пойдут их снимки. А эти
улыбки! Фамилия, годы жизни и спокойное,
верящее в бессмертие лицо. Вокруг жужжание
мух, растения, другие лица, тоже не знающие,
что они — маски, за которыми бесчинствует распад.
Как-то, идя по широкому московскому кладбищу,
я встретил соседа по лестничной площадке.
Почувствовав на себе взгляд, повернул голову
влево и столкнулся глаза в глаза с Иваном Фроловичем
Соковым из 110-й квартиры. Праздничный,
в генеральской форме. Фотография красовалась
на черном, отполированном мраморе:
солнце отражалось, слепя. «Вот мы и встретились
опять, — подумал я, — Случайная встреча — все
равно, что в толпе, где-нибудь в метро…»
Но и до рождения нас фотографируют.
Вспоминаю: Аня пришла от врачей с большим
пластиковым листом, на котором замерли диковинные
светотени.
— Это он! — воскликнула она.
Это был наш сын, внутриутробный плод, будущий
Ванечка.
Жизнь моя начиналась, когда фотография
ценилась высоко. Отдельные чародеи-любители
в комнатах без света проявляли пленку, что вызывало
у детей зависть и благоговение. Первые
лет семь жизни я снят только черно-белым. Зато
потом шли уже цветные фото, хотя и бумажные.
После двадцати пяти — почти все электронные,
в изрядном количестве.
Я верю в тайну фотографии, еще не разгаданную.
Космические снимки позволяют видеть внутренние
слои земли. По фотографии человека
можно определить его недуг. Над фотографиями
колдуют: привораживают и наводят порчу.
Едва ли с частым успехом, но есть злая забава,
укорененная в народе: поганить вражью фотку.
Теперь, вероятно, это колдовство облегчают возможности
фотошопа.
Одна тетка, в сельмаге торгующая, простодушно
поделилась:
— У меня моих карточек целая куча. В ночь
на воскресенье сяду у плиты, разглаживаю их,
все глажу и глажу, и в огонь бросаю. А чтоб молодеть! Чтоб морщинки мои уходили… — Она
кокетливо засмеялась.
Фотографий нынче лавина, как и видеороликов,
мир ими заполнен, мир помешан на съемке.
Но одновременно тревожиться о снимках старомодно.
Они слишком легко возникают и утратили
цену. Пожалуй, фотографии остались в двадцатом
веке, и все больше становятся мусором…
Фотографий у меня мало. Не собираю и не
храню. А это и неважно. То и дело я возвращаюсь
к событиям и людям, фотографически отпечатавшимся
в мозгу. И книга эта, наверное,
еще продолжится.
Иногда мне кажется, что все мои фотографии,
утраченные, отсутствующие и несбывшиеся,
где-то хранятся. Когда-нибудь их предъявят.
Может быть, когда выхода уже не будет
(на ближайшей войне или в старческой постели),
я увижу этот альбом своей жизни, торопливо
и безжалостно пролистываемый.
И вот тогда пойму какую-то главную тайну,
изумленно ахну и облегченно ослепну в смерть.
Мое советское
детство
Осень 93-го. Я убежал из дома на баррикады.
Здесь — бедняки и не только, и единственный
лозунг, который подхватывают все с готовностью:
«Советский Союз!»
Я стою на площади у большого белого здания,
словно бы слепленного из пара и дыма, и вокруг
— в мороси и дыму — переминается Русь
Уходящая. Любовь и боль доверчивых лиц, резкие
взмахи рук, размытые плакатики. Горячий
свет поражения исходит от красных флагов.
— Сааавейский Сааюз!.. — катится крик,
волна за волной.
— Сааавейский Сааюз!.. — отчаянно и яро
хрипит, поет, стенает и стонет вся площадь.
Рядом со мной старушка. Ветхая и зябкая,
она не скандирует, а протяжно скулит имя своей
Родины…
С далекого балкона нам обещают скорый приход
сюда — в туман и дым — верных присяге
воинских частей…
В детстве я не любил Советский Союз, не мог
любить, так был воспитан.
Но в тринадцать лет, когда Союз уже погиб,
я, следуя порыву, прибежал на площадь отверженных,
которые, крича что есть силы, вызывали
дух его…
…Читать я научился раньше, чем писать. Брал
душистые книги с тканными обложками без заглавий,
в домашних, доморощенных переплетах.
Открывал, видел загадочно-мутные черно-белые
картинки, переписывал буквы. Бывало, буква изгибалась,
как огонек свечи: плохой ксерокс. Книги
влекли своей запретностью. Жития святых,
убитых большевиками, собранные в Америке монахиней
Таисией. Так постепенно я стал читать.
Мне было четыре года, мама позвала ужинать.
Папа с нашим гостем, рыжебородым дядей
Сашей, шли на кухню по узкому коридору,
я следом.
— Нужно будет забрать книги… — бубнил
гость, и вдруг они остановились как вкопанные,
потому что отец резко схватил его за локоть.
— Книги? — спросил он каменным голосом.
— Какие книги?
Секунда, обмен взглядами. Дядя Саша оторвался
от пола и в легком прыжке пальцами
коснулся низкого коридорного потолка. И выпалил:
— Детские! — с радостью и ужасом.
Затем, в странном, бесшумном танце приближаясь
к кухне, они оба вытянули правые руки
с указательными пальцами, возбужденно устремленными
в угол подоконника, где скромно зеленел
телефонный аппарат.
На пороге кухни я забежал, просочился вперед,
рискуя быть растоптанным, и мне запомнились
эти пальцы, пронзившие теплый сытный
воздух.
Я помню сцену так, будто наблюдал ее минуту
назад. Все разыгралось стремительно, но столь
ярко, что я мгновенно загорелся карнавалом.
Бросившись к телефону, я сорвал трубку и,
ликуя, закричал:
— Книги! Книги! Книги!
Мама уронила сковороду, папа выдрал штепсель
из розетки и отвесил обжигающий шлепок,
а гость, схватив меня, заплакавшего, за локоток
хищным движением, наставил светлые сухие
глазищи и зашелестел с присвистом из рыжей
бороды:
— Ты хочешь, чтобы папу посадили? У тебя
не будет папы…
Спустя какие-то годы я узнал, что отец, будучи
священником, владел подпольным маленьким
типографским станком, спрятанным в избе
под Рязанью. Там несколько посвященных, включая
гостя, печатали книги: молитвенники и жития
святых (в основном — новомучеников, включая
последнюю царскую семью) по образцам, присланным
из города Джорданвиль, штат Нью-Йорк.
И дальше эти миссионерские книги путешествовали
по России. Случись утечка, я стал бы сыном
узника. Телефон — главное орудие прослушки,
считали подпольщики. Он живой. Он слушает
даже с трубкой, положенной на рычаг. «Книга,
книги» — были те ключевые сладкие и колючие
слова, которые говорить не следовало.
Мне было пять, когда в Киеве арестовали
мужа знакомой нашей семьи Ирины. Она приходила
к нам с дочкой Ксенией. Серенькая, пугливая,
зашуганная девочка с большими серьезными
глазами. Ее папу посадили за книгу. Он
барабанил на печатной машинке, и якобы в прослушиваемую
через телефон квартиру пришли
с обыском на этот звон клавиш.
В шесть лет я тоже принялся за книгу. Не потому
что хотел отправиться за решетку, просто
запретность манила. Я нарисовал разных священников,
и монахов, и архиереев, пострадавших
за времена советской власти. Эту книгу с неумелыми
детскими каракулями и бородатыми лицами
в колпаках клобуков у меня изъяли родители.
Я длинную тетрадь не хотел им отдавать, прятал
в пододеяльник, но они ее нашли и унесли.
С кухни долетел запах жженой бумаги. Они опасались.
Но я продолжал рисовать и писать протестные
памфлеты и запретные жития. А однажды,
заигравшись в страх, решил уничтожить горку
только что нарисованного и исписанного — это
была репетиция на случай, если в квартиру начнет
ломиться обыск. Я придумал — не жечь, а затопить листы. Сгреб их и уложил в игрушечную
ванночку, туда же зачем-то поместил свою фотографию
из времени, которого я не помню: грудного
и блаженного меня окунает в купель блаженный
и седовласый отец Николай Ситников.
Я почему-то подумал, что этот снимок тоже улика.
Сложив листы и снимок, я залил их водой, краска
расплылась, и вскоре запретное стало цветной бумажной
кашей. Родители заметили пропажу фотографии,
но что с ней стало, я им не признался.
А потом, словно в остросюжетном «Кортике»
Рыбакова (я исполнял роль мальчика-бяки, сына
контрреволюционного попа), к нам в квартиру
вселились останки последней царской фамилии.
Расстрелянных отрыл среди уральских болот один
литератор и часть схоронил у священника.
Пуговицы, ткани, брошь, черепа и кости —
все это впитывали детские глаза, но детские уста
были на замке. Мир еще ничего не знал об этой
находке. Не знал СССР. Москва. Фрунзенская
набережная. Двор. Не знал сосед Ванька.
Вот так я провел свое советское детство — в одной
квартире с царской семьей.
(Парадокс: моя бабушка Валерия, мамина
мама, училась в Екатеринбурге в одном классе
гимназии с дочкой Юровского, расстрелявшего
царя).
Через год после того, как останки у нас появились,
к нам (и сейчас помню, в сильный дождь)
пришла Жанна, француженка-дипломат, розовое
простое крестьянское лицо. Католичка, она
обожала православие. Иностранцам нельзя было
покидать Москву, но она, повязав платочек, выезжала
поутру на электричке в Загорск, стояла
всю литургию в Троицкой Лавре и возвращалась
обратно. Может быть, чекисты снисходительно
относились к набожной иностранке.
Она подарила мне кулек леденцов, от чая
отказалась, и направилась прямиком в кабинет
к отцу. И они завозились там. Послышалось
как бы стрекотание безумного кузнечика. Не вытерпев,
я приоткрыл дверь и вошел на цыпочках.
Жанна все время меняла позы. Она вертелась вокруг
стола. Один глаз ее был зажмурен, а у другого
глаза она держала большой черный фотоаппарат,
выплевывавший со стрекотом голубоватые
вспышки. Стол был накрыт красной пасхальной
скатертью, поверх которой на ровном расстоянии
друг от друга лежали кости и черепа, мне уже
знакомые.
Я приблизился. Отец почему-то в черном
подряснике стоял у иконостаса над выдвинутым
ящичком, где ждали свой черед быть выложенными
на стол горка медных пуговиц, крупная,
в камешках брошь, два серебряных браслета,
и зеленоватые лоскуты.
Увидев меня, он беззвучно замахал рукой,
прогоняя. Рукав его подрясника развевался,
как крыло.
В то же время мой дядя делал карьеру в системе.
Дядя приезжал к нам раз в полгода из Свердловска,
где он работал в обкоме.
Дядя был эталонным советским человеком.
Гагарин-стайл. Загляденье. Подтянутый, бодрый,
приветливый, с лицом, всегда готовым
к улыбке. Улыбка мужественная и широкая.
На голове темный чуб, на щеках ямочки, в глазах
шампанский блеск. У него был красивый,
оптимистичный голос. Дядя Гена помнил наизусть
всю советскую эстраду, и мог удачно ее
напевать. Когда он приезжал, то распространял
запах одеколона, они с отцом пропускали несколько
рюмашек, дядя облачался в махровый
красный халат, затемно вставал, делал полчаса
гимнастику, брился и фыркал под водой и уходил
в костюме, собранный и элегантный, на весь
день по чиновным делам.
Но как-то он приехал без улыбок. Сбросил
пальто на диван в прихожей. Тапки не надел,
прошлепал в носках. Сел на кухне бочком, зажатый.
Даже мне не привез гостинца, а раньше
дарил весомую еловую шишку с вкусными орешками.
— Брат, ты меня убил… — Голос дяди дрогнул,
и стал пугающе нежным. — Ты сломал мой
карьерный рост. Я не мог об этом говорить по телефону.
Теперь победил Стручков. А у меня все
шло, как по маслу. Ельцин меня вызвал. Говорит:
«Это твой брат священник? Это как так? Как?»
И ногами на меня затопал.
Дядя схватил рюмку, повертел, глянул внутрь,
нервно спросил, словно о самом главном:
— Чего не разливаешь?
— Кто такой Ельцин? — спросил папа.
— Мой начальник, ты забыл? — Дядя шумно
втянул воздух, откупорил бутылку, наполнил
рюмку. — Тебе моя жизнь по барабану? Он, знаешь,
скольких живьем ел? Воропаев у нас был.
Птухина до инфаркта допилил. Ельцин — это
глыба! О нем ты еще услышишь! Он не посмотрит…
Ты ему палец в рот… Он Козлова Петра
Никаноровича в день рождения заколол. Поздравил
увольнением, а, каково? — Не договорив,
дядя с решимостью суицидника опрокинул рюмку
полностью в себя, тотчас вскочил, и заходил
по кухне.
Заговорила мама, рассудительно:
— Геннадий, садитесь, ну что вы так переживаете.
А вам не кажется, что все это как-то несерьезно
в масштабе жизни: Козлов, Птухин, кого
вы еще называли? Сучков, да? Елькин…
— Не Елькин, а Ельцин! Не Сучков, а Стручков!
— Дядя топнул носком по линолеуму. —
Это аппарат! Это власть! Это судьба ваша и моя,
и всех! Зачем ты попом стал? Ни себе, ни людям…
И сам сохнешь, и родне жизни нет!
Потом я сидел в другой комнате и слышал доносившиеся
раскаты кухонной разборки.
Итак, я с самых ранних лет знал, что мало
с кем можно говорить откровенно.
Был такой священник, которого мои родители
подозревали в том, что он агент КГБ. И говорили:
«Прости, Господи, если мы зря грешим на невинного
человека!». Он с настойчивой частотой
приходил к папе, и когда он приходил, мне говорили «цыц!». Его звали отец Терентий. Он источал
аромат ладана. Я брал у него благословение,
вдыхал душистое тепло мягких рук, но лишнего
с ним ни гу-гу. Был он с длинными черно-седыми
волосами и лисьим выражением лица. Все время
кротко опускал веки. И еще у него был хронический
насморк. Он утирался платком. От этого
насморка у него был загнанно-мокрый голос.
— Отец Терентий, — говорила ему мама, провожая,
— почему вы приходите больным? У нас
маленький ребенок.
И в этих ее словах звучал намек на другое —
с чистой ли совестью ходите вы к нам, дорогой
отец Терентий?
Я слышал разговоры взрослых про заграницу.
Но в своих мечтах я никогда не бывал за границей,
все месил и пылил тута. Я дорожил нашей
квартирой в огромном доме со шпилем и деревянным
домом на даче. Я хотел рыть окопы, ползти
в траншеях, хорониться с ружьем за елью, кусая
ветку и чувствуя на зубах кисло-вяжущий вечнозеленый
сок. Глина и пыль дорог — такой была
«визитка» желанной войны. Я был почвенник
и пыльник… Да, я часами скакал на диване, поднимая
столбцы пыли, как будто еду на телеге, окруженный
полками, и мы продвигаемся по стране.
Выстрелы, бронетехника, стрекот, белые вспышки
на ночном небосклоне, раненые, но не смертельно,
друзья, и какая-то русая девочка-погодок
прижалась головой к командирскому сердцу. Нам
по шесть лет. Крестовый поход детей. И сердца
у нас работают четко, как моторчики: тук-тук-тук.
И белая вспышка нас связала.
Взятие Москвы. Ветер и победа. Размашистые
дни. По чертежам заново отстраиваем храм Христа
Спасителя. Снаряжаем экспедицию за вывезенным
в эмиграцию спасенным алтарем, снимаем
сохранившиеся барельефы с Донского собора.
Мой папа служит молебен на Москве-реке, кропит
святой водицей тяжелые сальные городские
воды, и начинается возведение огромного храма.
И в то же время специальные службы приступают
к очистке этой грязной реки, чтобы она воскресла,
повеселела и в ней можно было спокойно
купаться, как в старину.
Так я мечтал.
Теперь фантазирую иначе.
Я был бы совпис. Нет, слушайте: предположим,
я совпис. Советский писатель. И что?
А другие? Колхозник? Рабочий? Шахтер?
Ученый? Военный? Учитель? Врач? Думаю, бывает,
что каждый переносится в то время и себя
воображает там.
Я враждовал с Советским Союзом все детство,
не вступив в октябрята — первым за всю историю
школы. И в пионеры тоже не вступил.
И все же мне жаль Родины моего детства.
Я вспоминаю ощущение подлинности: зима —
зима, осень — осень, лето — лето. Вспоминаю
кругом атмосферу большой деревни, где скандал
между незнакомцами всегда как домашний, распевность женских голосов, хрипотца мужских,
и голоса звучат так беспечно и умиротворенно,
что даже от ребенка это не скроется.
Осенью 93-го, хотя уже было поздно, подростком
я возвращал долг Советскому Союзу. Убежал
из дома, бросился на площадь.
Собравшиеся там были сырые, пар мешался
с дымом. Сквозь серую пелену изредка сверкали
костры, так, будто солнце жалобно просится
из трясины.
На следующий день появилась газетная фотография
той площади — последний митинг перед
тем, как белое здание обнесут колючей проволокой.
Фотография сделана с балкона. Удачная
фотография, хотя черно-белая. Запрокинутые
лица, сжатые кулаки, поднятые флаги… Народ
кричит: «Советский Союз!»
Там, где я встал, обильный дым стелился,
скрывая полсотни голов, поэтому на фотографии
я не виден.
Как я был алтарником
Я застал не только антисоветское подполье.
Я застал Красную Церковь — весомую часть
Советской Империи.
В четыре года на пасхальной неделе я первый
раз оказался в алтаре. В храме Всех Скорбящих
Радости, похожем на каменный кулич, большом
и гулком, с круглым куполом и мраморными драматичными
ангелочками внутри на стенах.
Через годы я восстановлю для себя картину.
Настоятелем был актер (по образованию и
приз ванию) архиепископ Киприан. Седой, невысокий,
плотный дядька Черномор. Он любил
театр, ресторан и баню. Киприан был советский
и светский, хотя, говорят, горячо верующий.
Очаровательный тип напористого курортника.
Он выходил на амвон и обличал нейтронную бомбу, которая убивает людей, но оставляет вещи.
Это символ Запада. (Он даже ездил агитировать
за «красных» в гости к священнику Меню и академику
Шафаревичу.) На Новый год он призывал
не соблюдать рождественский пост: «Пейте
сладко, кушайте колбаску!» Еще он говорил
о рае: «У нас есть, куда пойти человеку. Райсовет!
Райком! Райсобес!» Его не смущала концовка
последнего слова. Папе он рассказывал про то,
как пел Ворошилов на банкете в Кремле. Подошел
и басом наизусть затянул сложный тропарь
перенесению мощей святителя Николая. А моя
мама помнила Киприана молодым и угольно черным.
Она жила девочкой рядом и заходила сюда.
«На колени! Сталин болен!» — и люди валились
на каменные плиты этого большого храма. Каменные
плиты, местами покрытые узорчатым железом.
Однажды Киприан подвозил нас до дома
на своей «волге».
— Муж тебе в театр ходить разрешает?
А в кино? — спрашивал он у мамы.
Меня спросил, когда доехали:
— Папа строгий?
— Добрый, — пискнул я к удовольствию родителей.
— Телевизор дает смотреть?
— Да, — наврал я, хотя телевизор отсутствовал.
И вот, в свои четыре, в год смены Андропова
на Черненко, на светлой седмице я первый раз
вошел в алтарь.
Стихаря, то есть облачения, для такого маленького
служки не было, и я остался в рубашке
и штанах с подтяжками. Архиерей обнял мою
голову, наклонившись с оханьем: пена бороды,
красногубый, роскошная золотая шапка
с вставленными эмалевыми иконками. Расцеловав
в щечки («Христос воскресе! Что надо отвечать?
Не забыл? Герой!») и усадив на железный
стул, поставил мне на коленки окованное
старинное Евангелие. Оно было размером с мое
туло вище.
Потом встал рядом, согнулся, обняв за шею
(рукав облачения был ласково-гладким), и просипел:
— Смотри, милый, сейчас рыбка выплывет!
Старая монахиня в черном, с большим стальным
фотоаппаратом произвела еле слышный
щелчок.
Я навсегда запомнил, что Киприан сказал вместо
птичка — рыбка. Возможно, потому что мы
находились в алтаре, а рыба — древний символ
Церкви.
В отличие от папы, сосредоточенного, серьезного,
отрицавшего советскую власть, остальные
в алтаре выглядели раскованно. Там был дьякон
Геннадий, гулкий весельчак, щекастый, в круглых
маленьких очках. Сознательно безбородый
(«Ангелы же без бороды»). «И тросом был поднят
на небо», — при мне прочитал он протяжно
на весь храм, перепутав какое-то церковнославянское
слово, и после хохотал над своей ошибкой,
трясясь щеками и оглаживая живот под атласной
тканью, и все спрашивал сам себя: «На лифте
что ли?»
В наступившие следом годы свободы его изобьют
в электричке и вышибут глаз вместе со стеклышком
очков…
В алтаре была та самая старуха в черном
одеянии, Мария, по-доброму меня распекавшая
и поившая кагором с кипятком из серебряной
чашечки — напиток был того же цвета,
что и обложка книжки Маяковского «У меня
растут года», которую она подарила мне в честь
первого мая.
— Матушка Мария, а где моя фотография? —
спросил я.
— Какая фотография?
— Ну, та! С Владыкой! Где я первый раз
у вас!
— Тише, тише, не шуми, громче хора орешь…
В доме моем карточка. В надежном месте. Я альбом
важный составляю. Владыка благословил.
Всех, кто служит у нас, подшиваю: и старого,
и малого…
Под конец жизни ее лишат квартиры аферисты…
С ужасом думаю: а вдруг не приютил ее
ни один монастырь? Где доживала она свои дни?
А что с альбомом? Выбросили на помойку?
Еще был в алтаре протоиерей Борис, будущий
настоятель. Любитель борща, пирожков с потрохами
(их отлично пекла его матушка). Мясистое
лицо пирата с косым шрамом, поросшее жесткой
шерстью. Он прикрикивал на алтарников: «У семи
нянек дитя без глазу!» Он подражал архиерею
в театральности. Молился, бормоча и всхлипывая,
закатывая глаза к семисвечнику: руки воздеты
и распахнуты ладони. Колыхалась за его спиной
пурпурная завеса. Я следил, затаив дыхание.
В 91-м отец Борис поддержит ГКЧП, и когда
танки покинут Москву, сразу постареет, станет
сонлив и безразличен ко всему…
За порогом алтаря был еще староста, мирское
лицо, назначенное властями («кагэбэшник», —
шептались родители), благообразный шотландский
граф с голым черепом, молчаливый и печальный,
но мне он каждый раз дарил карамельку
и подмигивал задорно.
А Владыка Киприан здесь и умер, в этом красивом
просторном храме, на антресолях, куда вели
долгие каменные ступеньки, мартовским утром,
незадолго до перестройки. Остановилось сердце.
Среди старушек мелькнула легенда, что он споткнулся
на ступенях и покатился, но было не так,
конечно.
В перестройку церквям разрешили звонить
в колокола. Колокола еще не повесили. Регентша
левого хора, рыжая востроносая тетя, захватила
меня с собой — под небеса, на разведку.
Путь почему-то был дико сложен. Полчаса мы
карабкались ржавыми лесенками, чихали среди
желтых груд сталинских газет, задыхались
в узких и бесконечных лазах, и все же достигли
голой площадки, перламутрово-скользкой
от птичьего помета. Я стоял на итоговой лесенке,
высунув голову из люка. Женщина, отважно выскочив, закружилась на одной ноге и чуть
не улетела вниз, но я спасительно схватил ее
за другую ногу, и серая юбка накрыла мою голову,
как шатер.
Я любил этот торжественный огромный храм,
я там почти не скучал, хотя и был невольником
отца. Дома я продолжал службу, только играл
уже в священника. Возглашал молитвы, размахивал
часами на цепочке, как кадилом, потрясал
маминым платком над жестянкой с иголками,
словно платом над чашей…
И вот раз вечерком, наигравшись в папу, который
на работе, я заглянул в ванную, где гремел
слесарь.
— В попа играешь! — Сказал он устало и раздраженно,
заставив меня остолбенеть. — Ладно,
не мухлюй. У меня ушки на макушке. Запомни
мои слова: не верь этому делу! Я тоже раньше
в церковь ходил, мать моя больно божественная
была. Потом передачу послушал, присмотрелся,
что за люди там, старые и глупые, да те,
кто с них деньги тянет, и до свидания. Спасибо,
наелся! — ребром почернелой ладони он провел
возле горла.
Ни жив ни мертв, я покинул ванную, и молча
сидел в комнате, вслушиваясь, когда же он
уйдет.
В девять лет меня наконец-то нарядили в стихарь,
сшитый специально монахиней Марией,
белый, пронизанный золотыми нитками, с золотистыми
шариками пуговиц по бокам, длинный,
ботинки не видны.
Я стал выходить с большой свечой к народу
во время чтения Евангелия. Помню, как стоял
первый раз, и свеча, тяжелая, шаталась, воск
заливал руки, точно кошка царапает, но надо
было терпеть. Зато потом приятно отколупывать
застывшую холодную чешую. В те же девять
я впервые читал на весь храм молитву — к Причащению.
Захлебывался, тонул, выныривал, мой
голос звенел у меня в ушах — плаксиво и противно,
и вертелась между славянских строк одна
мысль: а если собьюсь и замолчу, а если брошу,
если захлопну сейчас молитвослов, выбегу прочь
в шум машин — что тогда?..
Накануне краха СССР папе дали беленький
храм по соседству, мне было одиннадцать. Внутри
находились швейные цеха, стояли станки в два
этажа, работники не хотели уходить и скандалили
с теснившей их общиной — правильно почуяв,
что больше реальности не нужны. Помню первый
молебен в храме. Толпа молилась среди руин,
свечи крепили между кирпичами. Маленькая
часть храма была отгорожена фанерой, и оттуда
вопреки звонам кадила звонил телефон, вопреки
хору доносился злой женский голос: «Алло!
Громче, Оль! А то галдят!» — и вопреки ладану
сочился табачный дым, но дни конторы с длинным
трудным названием были кончены.
Церковь восстанавливалась быстро. За советским
слоем, как будто вслед заклинанию, открылся
досоветский. На своде вылезла фреска:
чудо на Тивериадском озере, реализм конца девятнадцатого
века: много сини, мускулистые тела,
подводная стайка рыб, кораблик. Во дворе, где
меняли трубы, обнаружилось кладбище, и картонная
коробка, полная темных костей, долго хранилась
от непогоды под грузовиком за храмом,
после с панихидой их зарыли, я разжигал уголь
для кадила и обжег палец так, что ноготь почернел
и слез. В самом храме завелся неуловимый сверчок
— хулиган, любивший отвечать возгласам священника
на опережение, быстрее, чем хор. Дорога
на колокольню оказалась несложной — прямой.
Колокола поднимали целый день. На следующее
утро затемно я ударил железом о железо и неистовствовал,
грохоча, а гражданин из дома поблизости,
в ужасе проснувшийся в новом мире,
ворвался в храм, умоляя дать ему поспать.
Сын настоятеля, я начинал алтарничать, уже
догадываясь, что все, кто рядом — мальчишки
и мужчины — обречены по законам этой проточной
жизни, по правилам любого человеческого
сообщества рано или поздно исчезнуть. Мальчики
вырастут и пошлют своих набожных матерей,
кто-то оскорбится на что-нибудь и сорвет стихарь,
кто-то пострижется в монахи или станет священником
и уедет на другой приход. Кто-то умрет,
как один светлый человек, синеглазый, чернобородый,
тонкоголосый, очень любивший Божью
Матерь. Он годами оборонялся от наркотиков,
но завернула в гости подружка из прошлого, сорвался
и вскоре погиб…
К двенадцати мне стало скучно в храме,
но я был послушным сыном. Я все мечтал о приключении:
пожар или нападут на храм сатанисты-головорезы — выступлю героем и всех избавлю,
и восхищенно зарозовеет девочка Тоня из многодетной
семьи. Миниатюрная, нежная, шелковая,
она стоит со своей очкастой мамой и восьмью
родными и приемными братиками и сестрами
на переднем крае народа: я подсматриваю за ней
сквозь щели алтарной двери и кручу комок воска
между пальцев.
Как-то осенью в 92-м году, когда я приехал
с папой на вечернюю службу как всегда заранее,
мне выпало приключение.
Людей было мало, десяток, папа скрылся в алтаре,
я замешкался и вдруг повернулся на стремительный
шум. Из дальнего предела пробежал
человек, прижимая к груди квадратный предмет.
Икона! Он рванул железную дверь. «Господи!» — выдохнула прислужница от подсвечника,
блаженная тетеря. В два прыжка я достиг дверей
и выскочил за ним.
Я не чувствовал холода в своей безрукавке,
нацеленный вперед на синюю куртку. Он перебежал
Большую Ордынку. Дети бегают легко,
я почти догнал его. Он глянул через плечо и тотчас
пошел широким шагом. Я на мгновение тоже
притормозил, но затем побежал еще скорее, хотя
увидел себя со стороны: маленького и беззащитного.
Он стоял возле каменных белых ворот Марфомариинской
обители. Руки на груди. Я остановился
в пяти шагах со сжатыми кулаками и выпрыгивающим
сердцем.
Он тихо позвал:
— Ну, щенок! Иди сюда!
— Отдайте икону! — закричал я на «вы».
Он быстро закрутил головой, окидывая улицу.
Подмога за мной не спешила. Вечерне-осенние
прохожие были никчемны. У него торчала борода,
похожая на топор. Может быть, отпущенная
специально, чтобы не вызывать подозрений
в храмах.
— Какую икону? — Сказал он еще тише.
— Нашу! — Я сделал шаг и добавил с сомнением.
— Она у вас под курткой.
— Спокойной ночи, малыши! — Сказал он
раздельно.
Резко дернулся, с неожиданной прытью понесся
дальше, опять перебежал улицу и растворился.
Я перебежал за ним — и пошел обратно.
Звонил колокол. При входе в храм было много
людей, они текли, приветствовали меня умиленно,
не ведая о происшествии, я кивал им
и почему-то не сразу решился войти внутрь,
как будто во мне сейчас опознают вора.
Там же в храме однажды я видел, что еще бывает
с иконой. Святитель Николай покрылся
влагой, и отец служил молебен. Я стоял боком
к иконе, держал перед отцом книгу, тот, дочитав
разворот, перелистывал страницу. А я косился
на загадочный, желто-коричневый, густой,
как слиток меда, образ, по которому тянулись
новорожденные сверкающие полосы. После вслед
за остальными целовал, вдыхая глубоко сладкий
мягкий запах. Целуя, подумал: «Почему, почему
же я равнодушен?»
На том молебне нас фотографировали у иконы,
но больше, понятно, саму икону, и, говорят,
одна фотография тоже замироточила.
Меня возили в самые разнообразные святые
места, монастыри, показывали нетленные мощи
и плачущие лики, я знал знаменитых старцев, проповедников,
с головой окунался в обжигающие
студеные источники, но оставался безучастен.
Был везде, разве что не был на Пасху в иерусалимском
Храме Гроба Господня, где, как считается,
небесный огонь ниспадает и божественные
молнии мешаются с бликами фотоаппаратов…
Были ли озарения, касания благодати?
Было иное. Летним душным днем прислуживал
всю литургию, и уже на молебне, при последних
его звуках зарябило в глазах. В полной темноте
вместе со всеми подошел к аналою с иконой
праздника, приложился лбом со стуком и, интуитивно
узнав в толпе добрую женщину-звонаря,
прошелестел: «Я умираю…» — и упал на нее.
Или — спозаранку на морозце колол лед возле
паперти, красное солнце обжигало недоспавшие
глаза, в тепле алтаря встал на колени, распластался,
нагнул голову и среди терпкого дыма
ладана не заметил, как заснул.
Было еще и вот что: прощальный крестный
ход. Семнадцатилетний, на Пасху, я шел впереди
процессии с деревянной палкой, увенчанной фонарем
о четырех цветных стеклах, внутри которого
бился на фитиле огонек. Накануне школьного
выпускного. Давно уже я отлынивал от церкви,
но в эту ночь оделся в ярко-желтый конфетный
стихарь и пошел — ради праздника и чтобы доставить
папе радость.
Я держал фонарь ровно и твердо, как профи,
и негромко подпевал молитвенной песне, знакомой
с детства. Следом двигались священники
в увесистых красных облачениях и с красными
свечами. Летели фотовспышки. Теплый ветерок
приносил девичье пение хористок и гудение множества
людей, которые (я видел это и не видя)
брели косолапо, потому что то и дело зажигали
друг у друга свечи, каждый за время хода обязательно
потеряет огонек и обязательно снова
вернет, так по нескольку раз. А мой огонь был
защищен стеклами. Я медленно, уверенно шел,
подпевая, мысли были далеко…
Впереди была юность, так не похожая на детство.
Я скосил глаз на яркое пятно. Щиток рекламы
за оградой: «Ночь твоя! Добавь огня!»
«Похристосуюсь пару раз, потом выйду и покурю», — подумал с глухим самодовольством подростка
и подтянул чуть громче: «Ангелы поют
на небеси…», и неожиданно где-то внутри кольнуло.
И навсегда запомнилась эта весенняя ночь
за пять минут до Пасхи, я орал «Воистину воскресе!» и пел громко, и пылали щеки, и христосовался
с каждым.
И никуда не вышел за всю службу, как будто
притянуло к оголенному проводу.
Но потом все равно была юность, не похожая
на детство.
Купить книгу на сайте издательства