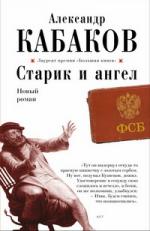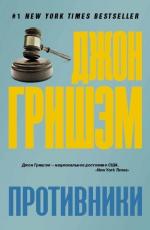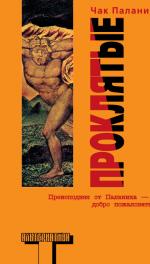- «АСТ», 2013
- «Пишу тебе из ада, сынок» — гласит надпись на обложке нового романа польского писателя Януша Леона Вишневского. И (впервые за долгий творческий путь автора) эта книга — не о любви и чувствах. «На фейсбуке с сыном» — это рассказ о самых обычных людях в самом обычном аду. Там, правда, упоминаются и Небеса, но жизнь праведников слишком скучна и размеренна. То ли дело кипение страстей, трагические судьбы, горячие споры о божественной несправедливости мироустройства и о греховности чувственной любви.
- Перевод с польского М. Тогобецкой
У нас в аду, сыночек, нынче рождение Гитлера
отмечали.
А и то сказать, сыночек, — событие-то для нас
немаловажное… Мало кто заслугами своими так
способствовал процветанию ада, как Адольф Г. Я им
сказала, меня это сильно интересует: Гитлер самую
большую любовь у меня отнял… но если бы не он, я
никогда бы не встретила другую свою любовь. Еще
большую. Так что у меня с ним свои счеты. Потому
я его рождение стороной обхожу. Ведь радость-то
— она не в оргиях каких… радость — она в покое
и воспоминаниях. Как сказал бы мой супруг Леон
Вишневский, сын Леона, «пошли они в ж… со своей
академией». А уж он-то прекрасно знал, что говорил,
хоть и выражался порой грубовато.
Вчера что-то меня так сильно и ощутимо толкнуло,
что решила я «добавиться» к Тебе на фейсбуке.
И добавилась. Ну, вернее — Ты меня добавил. Под
номером три тысячи каким-то в ленте Твоих «фейсовых
» друзей.
Ты писал мне, что в мой день рождения Ты всегда
со мной… и даже вчера, когда Тебя не было,
Ты был — хотя и очень далеко. Что Ты скучаешь.
И иногда так сильно, что испытываешь физическую
боль. Ты свечи и лампадки в Торуни зажигаешь на
моей могилке, а если покупаешь цветы — то всегда
белые розы. И если в день поминовения усопших не можешь там побывать, в этот день приходишь на
кладбище, будь то в другой стране или даже на другом
континенте, и там ставишь мне свечку.
И все время молишься за меня. За отца, за бабу
Марту и даже за дедушку Брунона, который вечно
устраивал Тебе дома проверочные работы по математике.
Но больше всех, со слезами, Ты молишься за
меня, говоришь, что в эти минуты чувствуешь ко мне
особую близость.
И то ли Ты плакал, то ли пил, а может, и то и
другое сразу, потому что чуть ли не в каждом слове,
написанном Твоей рукой, есть ошибки — то не те
буквы, то описки…
Что это с Тобой, сыночек? Я ведь Тебя знаю, знаю
своего Нушика. Ближе-то никого не было и не будет,
с самой первой минуты, с первого Твоего вздоха.
С того момента, как Тебя из живота моего достали и
на грудь мою обмершую положили, когда я от наркоза
отошла… и как у меня дыхание перехватило, да
не от чего такого, не от гравитации какой или еще
чего, а от любви к Тебе, сыночек. До потери дыхания
я Тебя в ту минуту полюбила, головку Твою, без
единого волоска и такую бесформенную, миллиметр
за миллиметром целовала и безмолвно, прикосновениями
губ, в любви Тебе признавалась.
Вечером Леон пришел со службы с букетом полевых
цветов, что собрал на лугу, и с плиткой шоколада,
и его пустили ко мне только по знакомству — он
в здравоохранении работал. Сел возле нас с Тобой на
край кровати и плакал, и на Тебя сквозь слезы смотрел,
и руки мне целовал, и нежными словами за то,
что я ему Тебя родила, благодарил. И такую я в этот момент неразрывную связь со всем миром ощущала!
Никакого допамина во мне не было — я сама и
была тем допамином, сыночек. В ту минуту я словно
почувствовала, как во мне распрямляется спираль
ДНК, и в животе моем изболевшемся что-то раскрывается
— нежнейшее, тончайшее, невесомое, словно
крылья бабочки цветной… Да так явственно я это
почувствовала, что за швы свои испугалась.
Никогда Ты не был от меня далеко! Никогда! Уж
я-то, сыночек, знаю… и хочу, чтобы знал это Ты.
Нуша, Нушик, Нушенька, Нушатик мой, сыночек
мой любимый…
Ты теперь старик.
Старый и некрасивый.
Твой отец в этом возрасте лучше выглядел, гораздо
лучше. Гены, что ли? Хотя странно — ведь Ты его
гены тоже должен унаследовать… ну да чего уж тут.
От Леона, отца Твоего, у меня голова шла кругом, я
могу быть пристрастной, конечно. От Тебя, сыночек,
у меня тоже голова кругом, только совсем по-другому.
Но Ты все-таки что-нибудь сделай. Займись собой.
Похудей. Позаботься о своем здоровье. И столько не
пей. Твой отец пил много, но оставался стройным, а
Ты вон пухнешь. Тут, в аду, говорят — мол, все писатели
ненормально много пьют. Но разве Ты писатель,
сыночек? Никакой Ты не писатель. Я им, со всем
убеждением и по совести, так и отвечаю: дескать,
мой Нушичек не писатель, у него дела поважнее имеются…
А писательство — это что, одно баловство.
Писать-то каждый может. Зато вон в химии — поди
разберись, это учиться нужно, долго, упорно. Не каждому
по плечу. Но Ты, Нушичек, всегда хотел учиться. Все хотел знать и понимать, потому что тот, кто
много знает, меньше боится — это отец вам обоим,
Тебе и Казику однажды сказал, и вы сразу поняли.
Ты как раз «не каждый». И всегда был не таким,
как все. И я всегда за Тебя волновалась.
Чудно мне писать «Ты» с большой буквы — ведь Ты
для меня навсегда остался маленьким. Крохотным.
Беспомощным…
Нушик мой любимый…
Но так уж принято — с большой-то буквы в письмах
писать. Хотя когда Ты в техникуме учился — я с
маленькой буквы писала, и Ты мне тогда был гораздо
ближе. А сейчас — важный стал, серьезный… образованный,
«остепененный» научным званием, в телевизоре
Тебя показывают и в газетах про Тебя пишут.
В аду много об этом говорят. Это, сыночек, суетное
тщеславие и искушение… а для ада подобное очень
приятно, и такие-то сюда куда чаще прибывают, чем
те, от которых остается две даты — ну, может, три:
еще когда брак зарегистрировали. А про Тебя, сыночек,
записи-то что ни день, а то и несколько за день:
в газетах, порталах, на фейсбуке вот.
У нас тут, в аду, сыночек, фейсбук этот прямо с
уст не сходит в последнее время.
Там грешат массово, регулярно и вдобавок — публично,
а это в аду очень поощряется. На фейсе движущая
сила — грех, тот, что идет первым в списке
В7, что на продвинутом английском означает
«Биг севен», а на нашем, польском, толкуется как
«Большой Список Семи» (БСС). Грех-то этот — тщеславие,
а по-простому спесь. Фейсбук в аду уважают
— значимая величина. Как инвестор или спонсор.
Уже во всевозможных конкурсах награды получил, а
в номинации «Технологии на службе ада» который
год остается на недосягаемой высоте: все, что земной
грех распространяет, здесь уважается и ценится.
А фейсбук нам, для ада, грех генерирует с энергией,
которую разве что с цунами можно сравнить. И ведь
все совершенно задаром. Конечно, есть и критики,
недовольные — но так всегда бывает, сыночек. Если
не получается разгромить произведение — они громят
автора, от бессилия. Так им легче своего добиться. Да
что я Тебе, сыночек, рассказываю — Ты с этим встречаешься
постоянно, Тебе ли не знать… Плохую Ты
книгу написал, потому что усы мещанские отрастил,
в провинции глухой родился, гуманитарного образования
у Тебя нету, оказывается, по-польски писать не
умеешь, к тому же Ты эротоман и онанист, помешанный
на менструальной крови, да еще и в Германии
проживаешь, а значит — куда Тебе Польшу, поляков
и полячек скудным своим умом понять, и потом Ты
богатый, то есть зажравшийся, у Тебя в книгах все с
ноутбуками от аэропорта к аэропорту бегают и бизнес-
классом в самолетах летают, вместо того чтобы в
поте лица, задыхаясь от вони, каблуки к ботинкам на
фабрике приклеивать…
За фамилию автора идеи и создателя фейсбука
цепляются, не нравится им фамилия Цукерберг…Ну
ясно, что они имеют в виду: жидовство мировое и
заговоры масонские. Будто бы он стремится весь мир
объединить в семейно-дружескую сеть и сам ее возглавить,
а потом и в аду власть прибрать к рукам. Ты
уж, сыночек, прости меня за грубость, но так сказал
бы Твой отец: «Пусть эти козлы обосрутся».
Много предложений вносится по оптимизации
фейсбука и финансированию различных проектов,
комиссии всякие образуются. Мыслят функции
фейса расширить и приспособить к своим нуждам.
Например, повесить под постами баннер «Я ненавижу
автора», что многократно повысит уровень
негативных эмоций и агрессии и сделает их главным
элементом контактов на фейсбуке. Или к «Показать
все комментарии» добавить опцию «Показать только
негативные комментарии», что приведет к тому же
результату. Я в петиции, из-за меня правой рукой подписанной,
очень возражала против таких нововведений,
ведь все это настоящую картину земной жизни
никак бы не отражало и в конечном итоге пошло бы
на пользу только Небесам: если так сделать, люди
от фейсбука захотят отсоединиться, Добро-то, оно
всегда в конце концов побеждает. И это могло бы
аду только краткосрочную выгоду принести, а ад на
долгосрочные проекты должен направление держать,
и не нужно грехом-то спекулировать, это все последние
события на Земле доказывают. Но вообще-то
анализ активности на фейсбуке меня радует и приводит
к выводам, которые представляются мне вполне
положительными. Особенно один:
Ты, сыночек, прямиком направляешься к аду.
Здесь много об этом говорят.
А я радуюсь. Потому что знаю — на Небеса Ты не
хотел бы попасть. Ты ведь считаешь, что там скучно,
не правда ли? Тебе везде и всегда очень скоро скучно
становилось. Ты вспыхивал, зажигался чем-то новым,
узнавал об этом побольше — и потом, как старую
игрушку или разлюбленную женщину, бросал без сожалений. В обычной школе в Торуни ты учиться
не захотел — это же скучно, так мира не познаешь. И
потому с великим трудом сдал экзамены в дорожный
техникум, который официально как-то иначе назывался,
а для меня это было как конец света, просто
конец света… где дьявол с распростертыми объятиями
Тебя поджидал.
Огромное огорчение Ты мне этим техникумом причинил.
Огромное. Никогда Тебе этого не говорила,
а теперь скажу. Ты покинул меня, сыночек, бросил,
оставил. Оставил в такой тоске невыразимой, что не
знаю, как и сказать. Я пять лет оправиться не могла,
с 31 августа
Тебе об этом, сыночек, писала. Все пять лет, каждый
день. Если бы не эти письма и не польская почта —
было бы мне на том свете совсем невыносимо, не
выдержать бы мне. А так — я вечером Тебе напишу,
и мне немножко легче. Отец-то Твой человек добрый
был, но несуразный какой-то. К тому же прагматик,
даром что поляк. Он мне сказал, мои письма
вы на помойку выбросили, мол, слишком много их
было, целый бы чемодан заняли, а к чему? Он мог
по попавшему под машину коту три дня убиваться, а
на похороны родных сестер не явился — мол, к чему?
Он был непредсказуемо непредсказуем. До самого
конца я не ведала, чего мне от него ждать.
Потому что он, сыночек, познал тайную суть женщины.