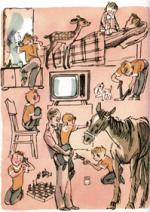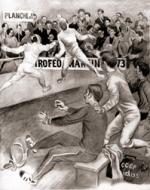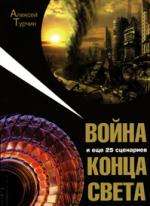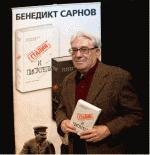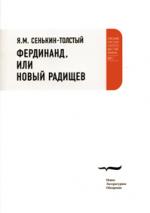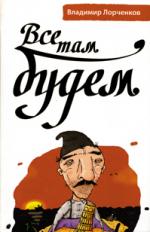ПЕРВОЕ ШКОЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ
СМЕШНЫЕ ЛЮБОВИ
Второкласснице Асе задали написать сочинение. Первое сочинение в жизни! Вот к чему привели титанические усилия учительницы — она таки научила толпу разнообразно одаренных детей писать. И теперь она коварно начинает эксплуатировать это умение. Диктанты и доклады уже давно пишем, теперь вот — сочинение, так и до конспектов недалеко.
Тема для сочинения взята глубоко «личностная»: надо написать «Что я люблю», опираясь на одноименный рассказ Драгунского.
Вообще, Драгунский — симпатичнейший автор. Я хорошо помню его еще по своему детству. Тогда мне нравилось, что его рассказы такие домашние, про настоящих живых обормотов. К тому же они были совсем непохожи на жития советских святых — книги про Володю Дубинина, Зою Космодемьянскую и Гулю Королеву. На фоне безупречных детей из «Тимура и его команды», бодрых пионеров из «Васька Трубачева» и перфекционистов, которые только притворялись хулиганами, из повести «Витя Малеев в школе и дома» Денис и Миша были такими на редкость нормальными и симпатичными, что я с удовольствием перечитывала рассказы Драгунского лет до двенадцати.
Но сейчас ситуация с детскими книгами изменилась, и я не понимаю, совсем не понимаю, зачем дети должны читать рассказы Драгунского и в первом классе, и во втором, тем более что перед первым классом они были заданы на лето и прочитаны от корки до корки. После первого класса они снова почему-то были в списке рекомендованного чтения на лето. Да еще я сама, как назло, в свое время скачала эти «Денискины рассказы» и записала их на диск среди прочих аудиосказок, так что Ася еще в пять лет неплохо знала все эти истории. Ну надоело же!
Положим, в пять лет «Денискины рассказы» казались Асе забавными и трогательными, я помню, как раз именно рассказ «Что я люблю» вызвал интерес и фонтанирование фантазии по Мишкиному образцу: «Я люблю манную кашу и котлеты, и конфеты, и мороженое, и…» — целый продуктовый магазин.
Но в восемь лет, в разгар предподросткового негативизма (негативизм у Аси не прекращается никогда, началось все с негативизма годовалых, когда Ася освоила слово «нет»), чтение в десятый раз истории про манную кашу вызывает скучливую ухмылку знакомого с жизнью, практически взрослого человека. В следующий раз ей будет интересно это читать, когда она сама кого-нибудь родит. Тогда она обнаружит, что Мишка и Денис — это дошкольный вариант братьев Бабицких из «Зависти» Олеши. Мишка — жизнерадостный монстр. «По утрам он поет в клозете» — это про Мишку в будущем. Мишка — будущий хозяин жизни, большой босс. А Денис — хилый интеллигент, обреченный на выпрашивание у этого самого босса грантов на свои узкоспециальные научные исследования. Но Ася всего этого еще не знает. И ей скучно.
В общем, условия для начала великого пути будущей бумагомарательницы не слишком хорошие. Тем не менее сочинение-то написать надо.
Ася сразу сказала, что она, в отличие от Дениса, строгать не любит и к лани с розовыми копытцами совершенно равнодушна. Что рассказ ей в целом не нравится и что писать сочинение на тему «Что я люблю» — это идиотизм и хвастовство. Что она лучше напишет, чего она — не любит. Тут мы вспомнили с ней Высоцкого и при?шли к выводу, что нам уже залезли в душу, а плевок — вопрос времени. После продолжительных препирательств я предложила Асе просто рассказать мне, что она любит, я запишу, а потом уж она сама выберет, что из этого списка она готова рассказать миру — то есть классу и учительнице.
Тут и началось самое интересное. Я молчала, изредка задавала наводящие вопросы. А Ася вдохновенно рассказывала, что она любит. Я торопливо записывала.
ТЕНИ ОТ ДЕРЕВЬЕВ
— Я люблю делать из карандашной стружки одежду для пластилиновых человечков.
— Я люблю смотреть в окно, когда солнце освещает окна дома напротив.
— Я люблю лежать в море на спине, как морская звезда, и тихонько шевелить пальцами рук и ног.
— Я люблю слушать сказки, мять пластилин и делать из него героев этих сказок. (Тут я поняла, откуда у нее на столе целая толпа хоббитов и каких-то непонятных греков. Попадаются и циклопы. Все дело в аудиосказках — «Хоббит» и «Одиссея».)
— Я люблю рисовать линии, у которых есть настроение — веселые и грустные, нежные и страшные.
— Я люблю закручивать тесто в улитки и делать из него печенье-буквы. (Положим, нечасто ей приходится делать печенье — я с подозрением отношусь к моей нынешней духовке в газовой плите белорусского производства и не пеку уже год.)
— Я люблю сидеть под душем и фантазировать.
— Я люблю придумывать овощной замок. (Точно, игра в овощной замок — наше дорожное развлечение последние года три. Мы идем, и Ася занудно придумывает башни из огурцов, стены из свеклы и картошки, пол в гостиной из арбузных корок, кровать из тыквы, простынки из укропа. У меня в этом замке уже есть, наверное, целое крыло королевы-матери, там штук двадцать моих комнат, которые я придумывала себе сама.)
— Я люблю рисовать акварелью ветер.
— Я люблю собирать красные кленовые листья, но только красные.
— Я люблю стричь кукол, а из их волос делать парики для пластилиновых человечков. (Ася тщательно скрывала свою склонность к парикмахерскому делу, потому что куклы у нас в основном при своих волосах.)
— Я люблю быть с мамой, когда она не занята, не ругается и не в плохом настроении.
— Я люблю, когда бабушка варит компот из вишен. (А я, наоборот, люблю консервированный компот из магазина.)
— Я люблю тени от деревьев весной.
— Я люблю играть с Бабасей в корабль. (Бабася — это Асина прабабушка. Они играют в корабль часами. На это время Ася просит меня уйти, чтобы я не мешала, я счастливо уношусь по своим делам, так что, в чем заключается игра, я так и не знаю.)
— Я люблю читать старые книжки, те, которые уже читала. А новые — не люблю.
— Раньше я любила сидеть в школе под партой, но теперь я уже слишком большая.
ХОББИТ С ГРИБАМИ
Ася явно выдохлась и отказывалась что-нибудь еще любить. Я попыталась похвалить ее за поэтичность некоторых желаний и получила по носу от юной негативистки: «Ненавижу все поэтичное! Я обычный ребенок! Не хочу любить красивое!» Я кротко сказала, что ее сочинение — ее личное дело и она с легкостью может добавить в список всего любимого половину ассортимента ближайшего гипермаркета, как это сделал бы Мишка, если бы Драгунский знал, что такое гипермаркет. В общем, Ася выбрала самые неяркие примеры своей любви к миру, нарисовала в качестве иллюстрации почему-то хоббита, окруженного грибами и цветами, и сочинение было благополучно вручено учительнице.
А я осталась при списке того, что на самом деле любит моя дочь. Тени от деревьев весной. Я тоже их люблю, когда листьев еще нет, но почки уже набухли. Красота. Что бы там ни говорила эта девочка, претендующая на обыкновенность. Список — в семейный архив. В мемориз, фактически.