Никола Ладжойя (1973), автор нескольких романов, в том числе «Три способа отделаться от Толстого, не щадя себя» (2001) и «Запад для начинающих» (2004); пишет также рассказы и сценарии
Coca-Cola, anno XLV
Год 1931-й. В Нью-Йорке завершается строительство «Эмпайр Стейт Билдинга», рядом происходят стычки между полицией и безработными, а в немецких пивных на подставках под кружки можно прочесть: «Кто покупает у евреев — предатель нации». Американские банки, которые один за другим приходят к банкротству, начинают требовать возврата внешних долгов, подливая масла в огонь кризиса (четырнадцать миллионов безработных в США, шесть — в Германии, три — в Великобритании) и подготовляя тем самым грандиознейшую в мировой истории бойню. Между тем в Джорджии, и, в частности, в Атланте, имелась своя, параллельная хронология. И согласно ей, над сотрудниками «Кока-Колы» сияло солнце самого ослепительного успеха.
За сорок лет после своего основания компания — которой предстояло стать самой известной из транснациональных корпораций — справилась с бесчисленными проблемами, грозившими взорвать ее изнутри (сражения за наследство, достойные шекспировского пера, жесточайшие споры с разливщиками напитка в бутылки), а также с внешними угрозами: постоянные попытки имитировать напиток, трудности, связанные с нормированием сахара после начала Первой мировой войны, шумные судебные процессы, но прежде всего — страшная буря, разразившаяся после краха на Уолл-стрит. Отмена «сухого закона», которая вернула в американские дома и магазины вино, пиво и крепкие напитки, должна была — по неподтвержденной теории некоторых экономических обозревателей — обозначить эру упадка безалкогольных напитков. Но и это событие пронеслось над «Кока-Колой», точно безобидный ветерок. Большая устойчивость, которую компания теперь демонстрировала в любом отношении (касалось ли это финансовых или производственных сторон, системы продаж или мотивации сотрудников) вместе с подлинно революционной коммуникативной стратегией привели к тому, что между двумя мировыми войнами «Кока-Кола» начала выполнять также мифопоэтическую функцию: процесс культурной колонизации впервые начал приобретать подлинно магические черты в 1931 году. Именно в тот год, сметая с пути препятствия, которые судебное решение двадцатилетней давности ставило перед компанией, «Кока-Кола» изменила для собственных целей облик Санта-Клауса, поставив его — с оглушительным успехом — себе на службу.
Великая депрессия разрушила отрасли промышленности, устойчивость которых до того казалась бесспорной, ввергла в отчаяние миллионы фермеров, оставила без наличности кредитные учреждения, но — специально для любителей «конца истории» — не коснулась напитка, на 99% состоящего из сахара и воды, потребительская ценность которого практически равнялась нулю. В сущности, кризис обошел его стороной: депрессия обводила траурной каймой число «1929», но для «Кока-Колы» 1929-й год был всего лишь сорок третьим годом ее истории.
Семь лет спустя, в 1935-м, акции «Кока-Колы» ценились больше, чем акции любой другой североамериканской компании. Такое спокойное прохождение через бурю кризиса вызвало недоверие у многих экономических обозревателей и удивление — у работников компании. Можно говорить о том, что суммарных умственных способностей сотрудников «Кока-Колы» не хватило бы, чтобы заставить ее продукцию так успешно продвигаться на рынке. И даже Роберт Вудраф, президент компании, был ошеломлен тем, что производимый ею напиток вышел из экономических потрясений начала 1930-х годов здоровым и окрепшим.
Сын известного банкира из Атланты, трудный подросток, затем — вице-президент автомобильной фирмы, Вудраф стал у руля «Кока-Колы» в возрасте всего лишь 33-х лет, в 1923-м году. В первые годы его президентства дела определенно шли хорошо: продажи возросли с 17 до 23 млн галлонов в год, а в 1926 году компания полностью освободилась от долгов. Однако уже в следующем году, предчувствуя всеобщий биржевой крах, Вудраф решил действовать против своей же компании, тайно продав принадлежавшие ему 6 600 акций. Это был неверный шаг: 29 октября 1929 года, в день катастрофы на Уолл-стрит, акции «Кока-Колы» слегка упали в цене (со 137 до 124 долларов за акцию), но к концу года подросли до 134 долларов, чтобы в 1935-м дойти почти до 200. В итоге Роберт Вудраф потерял более 400 тысяч долларов.
Сказать, что компания была «умнее» ее президента, — значило бы принизить ловкость, дальновидность, харизматичность человека, который на протяжении более чем полувека провел «Кока-Колу» через тысячи сражений, большую часть из которых выиграл. Вудраф прекрасно видел общее состояние рынка и его неминуемое драматичное свертывание. Просто его рассуждения — иначе и быть не могло — следовали логике, отличной от той, которой придерживалась компания в течение некоторого времени.
Вудраф мыслил в категориях компании, коммуникативная сила которой зависела от материальности продукции, от рационализации процесса ее выработки, от системы продаж, от соглашений с предприятиями по розливу напитка в бутылки и т. д. — от факторов, которые, как было сказано, оказались важнейшими для существования торговой марки на протяжении более чем сорока лет. Однако «Кока-Кола» (ее коллективный разум, если можно так выразиться) уже вышла из индустриальной эпохи, производя на своем пути «текст» такой убедительности, мифологию такой стойкости и связности, что она стала неотъемлемой частью внутреннего мира американцев. Чтобы остановить ее восхождение, потребовался бы крах всей системы, а не экономический кризис, пусть и очень серьезный.
Одно из событий, которое для производителя товаров широкого потребления является радикальным качественным скачком, признаком мощи, подлинной гарантией выживания в среднесрочном плане и неуклонного увеличения масштабов деятельности, — это создание фантазма. Материальное производство до некоторой степени преуспевает в выработке своей иллюзорной версии, которую настоящий продукт (банка с напитком, кожаный кошелек, спортивные ботинки), кроме присущих ему качеств фетиша, способен порождать через посредство медиума. Помимо способности удовлетворять обыденную потребность, — утолять жажду, в случае «Кока-Колы», — помимо «мистических свойств», которыми товар обладает, согласно Марксу, выступая носителем меновой стоимости, — перед потребителем развертывается целый мир: не статичный образ продукта, а целая система, пребывающая в движении: повествовательная система. Производить напиток с особо приятным вкусом — хорошее дело, но сделать так, чтобы он стал точкой в конце «рассказа», скользнув вниз по невидимому пищеводу, соединенному с лимбической системой потребителя, — вот что стало одним из самых больших достижений, которых могла пожелать себе «Кока-Кола».
Повествование, о котором идет речь, может быть названо «фантазмом» еще и потому, что его драматургические элементы неясны, неразличимы, бесплотны; и чем менее они осязаемы, тем сильнее воздействует рассказ, тем больше он порождает ассоциаций. Люди Вудрафа добились того, что их продукт — настолько простой и неопределенный, что он мог связываться с чем угодно — распространил свою ауру примерно тогда, когда Вальтер Беньямин объявил угасшей ауру произведений искусства. Техническая воспроизводимость в условиях массового производства, которая начиная с XVII века стала применима к предметам, но также и к новым нарративным практикам (таков случай, например, кино) и которая, согласно немецкому философу, поставила под угрозу традиционное магически-ритуальное содержание произведений искусства, их неповторимость, их hic et nunc, подмененное чисто экспозиционной ценностью, полной доступностью, — эта техническая воспроизводимость становится средством, благодаря которому товары (из-за своего свойства быть потенциально доступными каждому в одинаковом виде) претендуют на то, чтобы свободно перемещаться из одного пространства в другое.
Создав собственного внеземного двойника, материальное предприятие — руководство, менеджеры, рекламщики, помещения, оборудование, даже система распространения — обречено порождать повествование-фантазм, питать не только риторику — дань традиции — но и собственный миф с его непостижимой алхимией. Это то, что усвоили сотрудники «Кока-Колы», с их неполным осознанием ситуации, которое именуется «деловым нюхом» — и «Кока-Кола» в целом, с ее полным, трезвым осознанием ситуации, которое является разумом продукта; таким образом, они уже в 1930-е годы перекинули для компании мостик в XXI век. Понятна растерянность экономических обозревателей и самого Вудрафа: они были слишком заняты разгадками посланий «краткого века», чтобы успешно осуществить прыжок в будущее. В каком-то смысле «Кока-Кола» на сорок пятом году своего существования перешагнула рубеж двух столетий.
Если Роберт Вудраф был Боссом, харизматической личностью с непреодолимым магнетизмом, и обладал способностью вызывать у своих подчиненных чувство преданности, часто переходившее в безудержный фанатизм, — то человеком, которому суждено было превратить месседж продукта в миф, начавший широко распространяться, стал Арчи Ли, неудавшийся писатель.
В 1919-м, окончательно расставшись с амбицией стать «творцом бессмертных романов», Ли начал работать на «Кока-Колу» в качестве рекламщика. Еще за несколько лет до этого рекламные лозунги компании отличались изрядным многословием — которое Ли решительно отбросил, — но в особенности говорили о качествах, присущих продукту (тонизирующий и возбуждающий, придающий бодрости, благоприятный для нервной системы, способствующий концентрации), больше, чем о его абстрактном очаровании. Реклама 1905 года, например, изображала молодого горожанина в кресле посреди полутемной комнаты. Текст гласил: «Для студентов и всех, кто работает головой. Выпейте стакан „Кока-Колы“ в восемь, чтобы сохранить мозг ясным и работоспособным до одиннадцати». В рекламе 1907 года Тай Кобб, известный бейсболист, уверял: «В дни, когда мне приходится играть двойную партию, я всегда в перерыве пью „Кока-Колу“, и потом играю вторую партию так, словно перед этим отдыхал».
Арчи Ли понял, что чем проще и туманнее будет текст, тем больше он будет приближен к формуле, способной перенести адресатов рекламного послания в «другой» мир. И в то время, когда Уильям Фолкнер доводил американскую прозу до предельной, невиданной прежде сложности и густоты, порожденный Арчи Ли загадочный простак вещал с плакатов: «Пейте „Кока-Колу“, восхитительную и освежающую!», «Жажда не знает времени года», «Да!», «Пауза, которая освежает». Со временем месседж продукта все более укорачивался и упрощался, достигнув в 1982-м подлинного совершенства: «„Кока-Кола“ есть!»
Революция, совершенная Арчи Ли, кроме лозунгов, касалась, разумеется, и изображений. Были решительно отброшены и слишком агрессивные рекламные ходы, и слишком изысканные образы, и напоминавшие о прерафаэлитах женщины с открытой грудью, которые в 1907 году томно посасывали «Кока-Колу» на плакатах. Их место заняли гладко выбритые, спокойные лица, сельские сценки, «ребята из соседнего дома». «Кока-Кола» не обещала перенос в иной, элитарный, далекий мир, а предлагала почти неотличимую от оригинала копию реального мира, повседневной действительности. И лишь под микроскопом можно было разглядеть, что тонкая работа «подсластителей» маскировала глубочайший разрыв с подлинной жизнью: исчезновение забот, тревог, стресса, возможность навсегда остаться в простом, светлом, неизменном настоящем. Обещали, скажем так, не что-то отдаленное, а «экзотику обыденности»: нереальный мир, который воспринимался как реальный.
Для достижения этого результата сотрудники компании стремились выработать все более «научный» подход к новой коммуникативной стратегии и наконец выработали нечто вроде основополагающей хартии из тридцати пяти пунктов, которой должны были придерживаться все рекламщики, работающие с агентством. Вот некоторые из рекомендаций:
- название марки должно всегда читаться;
- никогда не делать прямых заявлений или откровенных намеков насчет того, что «Кока-Колу» должны пить маленькие дети;
- на каждой бутылке должна быть надпись: «Восхитительная и освежающая»;
- при показе открытого холодильника дверь, на полках которой хранятся бутылки, должна быть распахнута широко;
- надпись «Кока-Кола» должна всегда укладываться в одну строку;
- всегда вставлять надпись «Зарегистрированная торговая марка» под первой «К», пусть даже эта надпись нечитаема;
- если выбираются рисунки или цветные фотографии с изображением девочки, предпочитать темноволосых;
- если изображается девочка-подросток или молодая девушка, предпочитать простую красоту утонченной;
- не употреблять никогда название «Кока-Кола» в «личном» плане (например: «Кока-Кола» приглашает вас перекусить);
- не употреблять никогда по отношению к «Кока-Коле» слово «она».
В рекламе, созданной Арчи Ли в тридцатые годы, нет и намека на то, какие экономические трудности переживала страна. В рекламе других товаров на первый план выдвигалась их способность облегчить сложности повседневной жизни (тем самым подразумевалось, что ситуация в стране далеко не радужная) или подчеркивались их конкурентные преимущества. «Кока-Кола» же убрала из своего рекламного посыла любой намек на агрессивность или утешение, которые встречались у других (через отсылку к лихорадочным ритмам современной жизни; через упоминание элитных и явно недоступных товаров, — их место заняли «домашние» женщины, пастельные тона, бытовые сценки или отсылки к мирным домохозяйкам прошлого, в то время как, по контрасту, США все дальше уходили по пути индустриализации), стараясь поддерживать иллюзию неизменного мира, в котором все доступное пространство заполнено не бурной, но беспредельной радостью жизни.
Арчи Ли помещал в свою рекламу именно то, что было нужно людям: бегство от действительности без всякой фантастики, возврат к «нормальной» жизни всего за пять центов. Именно тогда, в 1931 году, мифопоэтическая машина «Кока-Колы» — намного более сложная и эффективная по сравнению с мрачной, устарелой пропагандистской системой европейских тоталитарных режимов — втянула в свою орбиту образ Санта-Клауса, пребывавший в зачаточном состоянии.
Смерть и воскресение коммивояжера
«Усыновление» Санта-Клауса «Кока-Колой» произошло тогда, когда христианские корни «рождественского дедушки» почти позабылись. Появившись в Новом Свете в XVII веке как атрибут религиозной традиции, насчитывавшей более тысячелетия, бывший святой Николай, епископ Мир Ликийских, в первые десятилетия ХХ века уже представал в США ярким символом общества потребления. Важный вклад «Кока-Колы» состоял не в том, что она дала толчок процессу дехристианизации Санта-Клауса, как утверждали самые недалекие очернители транснационального гиганта — этот процесс шел уже давно — но в том, что она закрепила его навсегда, сделала в каком-то смысле необратимым. Встреча между ними получилась почти случайной, но это не отменяет того факта, что все предпосылки для счастливого союза были налицо. В 1931 году казалось, что Санта-Клаус и «Кока-Кола» поистине созданы друг для друга.
Часто крупным предприятиям бывает необходим предлог, толчок, случайность для того, чтобы их виновники осознали такие последствия своих действий, о которых до того даже не догадывались. Такой случайностью, если говорить о присвоении Санта-Клауса «Кока-Колой», стал доктор Харви Вашингтон Уайли, одно имя которого, начиная с 1907 года, способно было стать кошмаром для руководителей будущего промышленного гиганта.
Доктор Уайли возглавлял Химическое бюро США. Он стал широко известен в 1902 году, когда по его предложению была создана так называемая «Ядовитая команда» — группа молодых людей, используемых в качестве подопытных кроликов. Члены команды на себе испытывали действие пищевых добавок, предположительно вредных для здоровья. В следующем году Уайли возглавил «крестовый поход» с целью добиться принятия законопроекта о подлинности состава пищевых продуктов и лекарств. Все предыдущие инициативы такого рода блокировались из-за лоббистов — пищевых компаний и Ассоциации производителей патентованных лекарственных средств (Proprietary Association of America). Уайли тогда успешно разыграл карту общественного мнения: привлек журналистов, которые разделяли его позицию, писал членам Конгресса, установил тесные связи с организациями, известными своей радикальностью, как, например, «Женское движение за христианскую умеренность». Полемика относительно «мошенничества с лекарствами в Соединенных Штатах» заполнила страницы газет, которые еще несколько лет назад не осмелились бы нападать на фармацевтические компании: последние были в числе крупнейших рекламодателей.
Демократия в мире масс-медиа — это сложная игра: в ней есть возможности для шантажа, которые обесценивают ее в принципе, но есть и инструменты для «обходных маневров», неожиданно приводящие ее в действие. В первые годы ХХ века случилось вот что: производители швейных машин, садового оборудования и других товаров широкого потребления обнаружили — позже, чем фармацевтические компании — выгоды рекламы: возможности для шантажа многих газет резко уменьшились, и доктор Уайли неожиданно получил новое пространство для маневра.
Среди производителей вредных пищевых продуктов — или, по крайней мере, среди тех, кто подозревался в обмане покупателей — была и «Кока-Кола». Хотя напиток давно уже не содержал ни грана кокаина, возможность присутствия в нем наркотика превратилась в нечто вроде национальной легенды. Кроме того, «Кока-Кола» содержала кофеин; этот компонент в законопроекте доктора Уайли не значился как «ядовитый». Однако поскольку «Кока-Кола» рекламировалась как «полностью натуральный» продукт, предназначенный в том числе и для детей, то в глазах общественного мнения, симпатизировавшего Уайли, компания была виновна по меньшей мере в недобросовестной рекламе.
Pure Food and Drugs Act (Закон о чистоте пищевых продуктов и лекарств) был принят в июне 1906 года. Аза Чандлер, тогдашний глава «Кока-Колы», ненавидел доктора Уайли: он считал его маньяком, фанатиком борьбы за здоровый образ жизни, кем-то вроде антихриста. Для начала он отверг тактику лобового столкновения и публично одобрил принятие закона. Чандлер рассуждал так: если «Кока-Кола» выступит в поддержку закона, то тем самым продемонстрирует общественности, что ей нечего скрывать. Итак, в конце 1906 года реклама напитка уже гласила: «„Кока-Кола“ способствует пищеварению, укрепляет нёбо, придает вкус работе и радость досугу. Гарантировано Законом о чистоте пищевых продуктов и лекарств».
Но это не помогло. В 1907 году доктор Уайли снова перешел в наступление, и теперь его мишенью все чаще становились стимулирующие напитки — пока, наконец, «Кока-Коле» не пришлось отвечать в суде.
Война между «Кока-Колой» и правительством США, окончившаяся знаменитым процессом 1911 года, интересна, среди прочего, тем, кто представлял обе стороны: Аза Чандлер против Харви Уайли.
Если следовать хронологии, то Чандлера можно считать вторым «хозяином» «Кока-Колы» — после «пионера» Джона Стита Пембертона и перед «космополитом» Робертом Вудрафом. Восьмой из одиннадцати братьев, сын золотоискателя, Чандлер возглавил фирму в переходный период: под его руководством «Кока-Кола» начала продажи в масштабе всей страны, но прежде всего производимый ею продукт перестал восприниматься как лекарственное средство, собираясь стать для всех просто напитком. И все же, чем шире распространялся образ «чудесного напитка» — ярлык, приклеившийся к «Кока-Коле» до ее всемирного триумфа, — тем больший метафизический заряд «Кока-Кола» несла в себе. Чандлер, методист по вероисповедованию, никогда не знал внутреннего покоя, как и многие его современники, соединившие протестантскую этику с духом капитализма, — и вот он начал видеть в себе апостола чего-то такого, что превосходило земные масштабы. «Кока-Кола» стала для него как бы предметным воплощением Господа. Убеждая своих подчиненных работать на благо «величайшего из товаров и величайшей из компаний, которые когда-либо появлялись на свете», — лозунг, воспринятый близко к сердцу многими из сотрудников компании, — он тем самым интерпретировал пройденный «Кока-Колой» путь в эсхатологическом ключе.
Харви Уайли, противник Чандлера, был ему под стать. Хотя он называл себя агностиком и, в отличие от Чандлера, был почти равнодушен к удовольствиям, в нем появлялся пророческий пыл всякий раз, когда речь заходила о крестовом походе за «натуральную пищу»: из-за своей черной одежды, апокалиптического тона речей, постоянных упоминаний о «чистоте» и склонности демонизировать своих оппонентов во имя общего блага — и правильного функционирования демократического государства — он заслужил прозвище «отца Уайли». Были ли Чандлер и Уайли двумя «сообщающимися сосудами»? Хотя их разделял мелкий вопрос, послуживший поводом к началу процесса, оба являлись приверженцами идеи, которая была выдвинута североамериканским капитализмом рубежа XIX и XX веков в свое оправдание и послужила мощнейшим толчком к его развитию. Смысл ее заключался в том, что стремление получить прибыль прямо связано с общим благом, а следовательно, и со спасением души. Любая социальная система, какие бы прекрасные принципы ни лежали в ее основе, не может существовать без известного градуса эмоционального накала среди своих членов. Любопытно, насколько часто этот «градус накала» достигается путем маскировки действительности (общее благо как двигатель капитализма, согласно Чандлеру и Уайли) — настолько, что закрадывается подозрение, будто мир движется не столько лицемерием (например, заботой о спасении души), сколько разрывом между словами (все та же забота о спасении души) и стоящей за ними реальностью (погоня за прибылью). Делать нечто в убеждении, что делаешь совсем другое — и где-то в темном уголке своего «я» ощущать холодную боль от этого расхождения: вот где кроется один из секретов успеха. Точно так же сегодня одна из движущих сил глобализации — это, возможно, расхождение между той целью, которую мы якобы преследуем (на этот раз — уже не общее благо, а погоня за прибылью, то есть самореализация индивидуума), и той, которую преследуем на самом деле (усиление Системы — вероятно, в ущерб индивидуумам). А пока что вернемся к стычке между Чандлером и Уайли, к процессу, к той самой случайности, которая выведет нас на Санта-Клауса.
«Соединенные Штаты Америки против 40 баррелей „Кока-Колы“». Забавно, но именно таково было официальное название судебного процесса, ставшего для компании из Атланты одним из серьезнейших испытаний в первые десятилетия ХХ века. Вот каково его происхождение: в 1907 году Уайли приказал конфисковать несколько баррелей напитка, преодолев вето со стороны правительственных организаций, в особенности Министерства сельского хозяйства. Между тем именно это вето в предшествующие годы блокировало подобные инициативы.
Конфискация привела Азу Чандлера в ярость и вызвала бурную кампанию по очернительству «Кока-Колы», для которой Уайли удалось привлечь самых ярких выразителей национальной истерии. Здесь были журналист Сэмюэль Гопкинс Адамс («Помните, что „Кока-Кола“ вызывает привыкание. Я слышал о людях, которым надо было выпивать 15—20 стаканов „стимулянта“ ежедневно»), известная Марта Аллен, лидер движения «Женщины за христианскую умеренность» («Я точно знаю мальчика, который стал полным ничтожеством, в школе и вообще, из-за привычки к „Кока-Коле“»), евангелист-методист Джордж Стюарт («Известно, что неумеренное потребление „Кока-Колы“ вызвало в женской школе серию ночных оргий, которые становились с каждым разом все более безнравственными. Кроме того, „Кока-Кола“ вызывает у мальчиков бессонницу, а это неизбежно ведет к мастурбации»). За ними стройными рядами шли пламенные хроникеры, бульварные журналисты и просто корыстолюбцы, готовые поклясться, что «Кока-Кола» содержит кокаин (от которого с 1903 года не осталось и следа) или опасные дозы алкоголя, кофеина, опия, неведомых и ужасных ядов. Говорили даже, что в бочках с сиропом, необходимым для приготовления напитка, находили насекомых, солому, дохлых крыс, испражнения.
Точно так же, как рок-кумиры, «Кока-Кола», прежде чем взобраться на Олимп массового сознания, должна была пройти через чистилище самых разнузданных обвинений. Но, в отличие от Элвиса Пресли и Джима Моррисона, «Кока-Кола» оказалась неподвластной принципу «взлета и падения» ввиду того простого обстоятельства, что она не подчинялась биологическим законам. Она не была подвержена старению, умиранию, героиновой зависимости — и даже кокаиновой, с того момента, как не содержала экстракта коки, в отличие от «чудотворного напитка», рекламировавшегося десятилетием ранее…

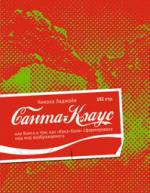



 На торжественном мероприятии присутствовали прославленные российские спортсмены: Андрей Сильнов (олимпийский чемпион по прыжкам в высоту), Ольга Брусникина (трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию), Анна Гавриленко (олимпийская чемпионка по художественной гимнастике), Тамара Быкова (двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту), Дарья Окладникова (чемпионка Европы по художественной гимнастике).
На торжественном мероприятии присутствовали прославленные российские спортсмены: Андрей Сильнов (олимпийский чемпион по прыжкам в высоту), Ольга Брусникина (трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию), Анна Гавриленко (олимпийская чемпионка по художественной гимнастике), Тамара Быкова (двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту), Дарья Окладникова (чемпионка Европы по художественной гимнастике).

 Вячеслав Николаевич Тельнов, генеральный директор «Ленфильма».
Вячеслав Николаевич Тельнов, генеральный директор «Ленфильма». Сергей Михайлович Миронов, председатель Совета Федерации.
Сергей Михайлович Миронов, председатель Совета Федерации.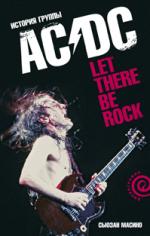

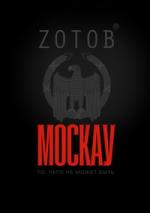
 На
На