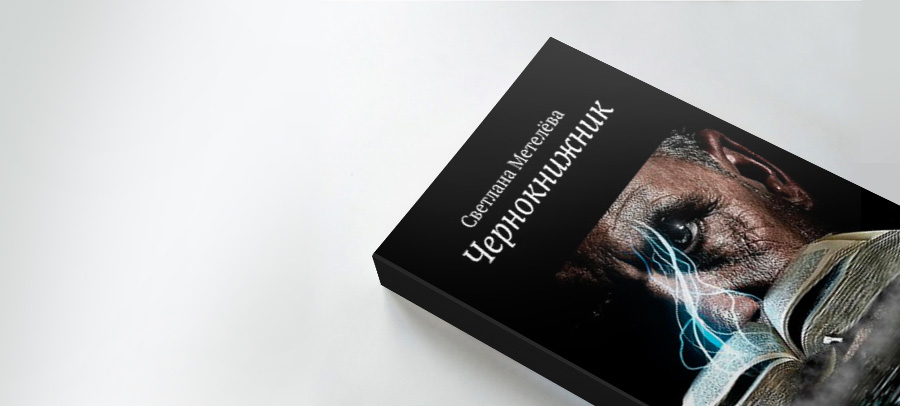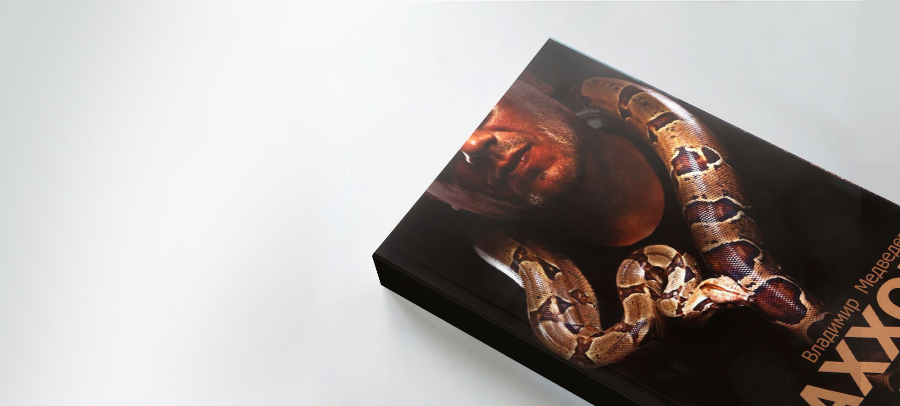- Тим Скоренко. Изобретено в России: История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II — М. : Альпина нон-фикшн, 2017. — 534 с.
Автор книги «Изобретено в России» Тим Скоренко ставил перед собой две задачи: максимально объективно рассказать об изобретениях, сделанных в разное время нашими соотечественниками, и развеять многочисленные мифы, связанные с историей изобретательства. «Прочтение» публикует главу, посвященную самому талантливому инженеру петровской эпохи.
ГЛАВА 5
АНДРЕЙ НАРТОВ И ЕГО СТАНКИ
Первый промышленный токарно-винторезный станок с механическим суппортом* был запатентован британским инженером Генри Модсли в 1800 году. Именно Модсли и считается революционером в токарном деле, именно его помнят в мире. Он работал в мастерских известного предпринимателя, одного из изобретателей гидравлического пресса, Джозефа Брамы, создал там свои первые станки, а затем, бросив труд по найму в 1797-м, основал собственную компанию, перевернувшую машиностроительный мир. Но Модсли начал разработку своей машины в 1780-х, в то время как Андрей Нартов мало того что построил первый подобный станок на 60 лет раньше, так еще и подробно описал его в своей книге, оконченной в 1755 году. Знал ли Модсли о станках русского самоучки? Неизвестно, но такое вполне вероятно. Книгу он видеть не мог, поскольку напечатана она была спустя много лет после смерти и русского, и англичанина, но вот реальный станок Нартова, хранящийся в Париже, не мог не привлечь внимание Модсли.
Впрочем, незаслуженно забытым Андрея Константиновича назвать нельзя. Многие его изобретения получили признание и «пошли в народ», а сам он был членом Петербургской академии наук и начальником академических мастерских. Возвышение Нартова кажется удивительным, если знать, что он происходил из посадских людей, то есть из простых мещан.
Он родился в 1693 году, в темное время совместного правления двух государей — малолетнего Петра и болезненного Ивана. Скорее всего, родители Андрея Нартова были мещанами среднего достатка — это объясняет тот факт, что в 16-летнем возрасте он поступил на работу и в обучение в мастерские Московской школы математико-навигацких наук. Располагалась она в знаменитой Сухаревой башне, бывшем владении шотландского «колдуна» Якова Брюса. Андрей занимался токарным делом, и именно там, в мастерских, к нему пришла удача. На Нартова обратил внимание частенько посещавший школу Петр I и уже в 1712 году вызвал юношу в Петербург — скорее всего, потому, что непосредственным руководителем Нартова был немец Иоганн Блеер, главный мастер по изготовлению станков для петровской токарни. Кроме того, Петр привлек в свою мастерскую еще как минимум двух специалистов, работавших в Москве: немца Франца Зингера и англичанина Георга Занепенса, прозванного Юрием Курносым для простоты — тогда всем иностранцам давали русифицированные имена-клички.
Высокая должность
Нартов очень быстро доказал правильность выбора и стал «царевым токарем», личным мастером Петра I. Это была очень высокая должность, что-то вроде современного министра промышленности: Андрей переделывал и совершенствовал станки в придворных мастерских, изготавливал по царскому заказу разные предметы и постоянно учился. В 1718-м Петр отправил Нартова в Европу — перенимать чужое мастерство. Помимо этого, Нартов должен был собирать сведения о новых европейских технологиях, а также искать талантливых иностранных мастеров для работы в Петербурге.
Интересно, что к тому времени Нартов уже спроектировал и построил свой легендарный токарно-винторезный станок с суппортом («педестальцем», как писал сам изобретатель). Станок в сопровождении его создателя был отправлен в Берлин для демонстрации мастерства русских ремесленников, и прусский король Фридрих Вильгельм I лично осмотрел изобретение Нартова. Удивительно то, что молодой человек везде имел успех — и как посланник из России с сильным козырем (личный друг царя), и просто как талантливый инженер. Два года он путешествовал по Европе, учился в Берлине, Лондоне и Париже, знакомился с тонкостями литейной и оружейной промышленности, осваивал мануфактурное производство, токарное и слесарное дело. При этом все общение с родиной Нартов и его спутники вели через Бориса Ивановича Куракина, первого российского посла в Великобритании, Нидерландах и Германии. Тот, человек чрезвычайно занятый, регулярно забывал пересылать Нартову средства и на закупку книг и оборудования, и просто на существование, так что путешествие не всегда было безоблачным. Помогало лишь то, что Нартов время от времени обещал Куракину нажаловаться лично Петру. Вообще переписка Нартова и Куракина — это прямо детектив, помноженный на мыльную оперу; советую найти и почитать.
Париж стал для русского механика городом триумфа. Говорят, что Жан-Поль Биньон, президент Парижской академии наук, предлагал Нартову остаться во Франции, но тот отказался, и Биньон написал для Нартова хвалебное рекомендательное письмо, служившее, по сути, про- пуском в научные круги любой европейской страны. Это тем более удивительно, что Биньон был гуманитарием до мозга костей — религиозным философом и личным библиотекарем короля, но все равно проникся талантом и обаянием русского. Поколесив по Европе, Нартов вернулся на родину.
Годы сытые и голодные
Период наибольшей активности Нартова пришелся на 1720–1725 годы. Петр предоставил ему огромные мастерские и почти полную свободу действий. За это время инженер разработал несколько конструкций токарных станков, ранее не виданных нигде и никем, параллельно занимаясь внедрением различных систем в корабельное и артиллерийское дело, а на досуге создавая скульптуры. В документах можно встретить «махину железную, в ко- торой нарезывают на колесах часовых зубцы», «махину простую токарную ж, работает колесом», «махину черенковую розовую, которая воображает в параллель-линию фигуры» и т. п. При этом он получал 300 рублей в год (немец Зингер, для сравнения, — 1500) и лишь с трудом смог добиться удвоения оклада. Дружба дружбой, а бухгалтерия бухгалтерией.
В 1724 году он предложил Петру I основать «Академию разных художеств» по образцу французской Академии искусств и ремесел. Царь положительно принял инициативу, был создан проект, деливший все ремесла на 19 подгрупп, но случилась беда: в 1725 году Петр I скончался. В течение года Нартов был отстранен от двора, его «махины» остались пылиться в мастерских, а едва расцветший век русского изобретательства (под началом Нартова трудилось немало талантливых токарей и мастеров, которых Андрей Константинович отбирал сам) неожиданно закончился тьмой и самодурством смутного периода, когда монархи менялись каждые несколько лет, а правили за их спинами хитроумные фавориты и министры.
Впрочем, Нартов имел слишком хорошую репутацию, чтобы его можно было просто так предать забвению. Тем более, кроме него, сильных инженеров в стране практически не было. Нартова отправили в Москву поднимать монетный двор, работавший по старинке, без оборудования, и напоминавший в большей мере хлев, нежели завод по производству денег. За семь лет Нартов разработал прессы для чеканки, станки для нарезки гурта, точные весы и другое оборудование, приведя монетный двор в современное по тогдашним меркам состояние. При этом изобретатель продолжал придумывать станки и другие машины, например спроектировал систему для так и не состоявшегося подъема Царь-колокола. В 1735 году Нартова снова потребовали в Петербург. Ну не то чтобы потребовали: в течение двух лет он, уже завершивший все свои московские дела, писал многочисленные про- шения в столицу, желая вернуться и продолжить работу в токарных мастерских, но пока его письма дошли до императрицы, утекло очень много воды.
И снова Академия
С одной стороны, никто, кроме Нартова, не мог возглавить механические мастерские при Петербургской академии наук: механики, сравнимые с ним по таланту и активности, в стране просто отсутствовали. С другой стороны, все академики были иностранцами, а возглавлял академию немецкий барон Иоганн Альбрехт фон Корф, занимавшийся в основном упрочением собственного положения и превративший научное учреждение в подобие кафкианской канцелярии. Более того, академики с фон Корфом во главе были против внедрения какой-то механики в их сугубо умозрительную область деятельности. Из-за этого даже после приглашения в академию Нартов в течение почти года не получал никакого жалования, а Корф на все его прошения отвечал в духе: «знай свое место, букашка». Тоже, кстати, занимательная переписка, она целиком сохранилась. Лишь к 1738 году работа и выплаты более или менее наладились.
Основная работа Нартова, ради которой он был вызван в Петербург, заключалась в модернизации артиллерийского дела. В 1730-1740-х он придумал множество машин для упрощения отливки и транспортировки пушек, устройства для сверления дул и поверки стволов, методы обтачивания бомб и т. д. Он усовершенствовал и сами орудия, разработав новые запалы и системы крепления стволов на лафетах. По сути, на тот момент он был министром артиллерии Российской империи.
Совсем по-другому шли дела у Нартова на бумажном фронте. Он постоянно воевал с бюрократическими кру- гами. В 1741-1745-х годах у академии номинально не было президента и возглавлял ее директор Библиотеки академии немец Иван Данилович Шумахер. Написав немало жалоб, Нартов сумел на полтора года отстранить Шумахера от руководства и сам негласно возглавил академию, но своей простотой и манерами вызвал недовольство академиков. Они его не признавали и не любили. Им не нравилось, например, что он не знает ни одного иностранного языка, — а ведь он постоянно работал с немцами, не говорящими по-русски, и много времени провел в Европе. В 1742 году в учреждении появился второй русский — Ломоносов, который, будучи блестящим ученым, прекрасно владел и дипломатическими навыками. В итоге реформу академии провел — правда, гораздо позже — именно он. Вскоре самодур и максималист Нартов ушел в отставку, и академию снова возглавил Шумахер.
Несколько слов в заключение
В последние годы жизни Нартов дорабатывал свой главный труд — книгу «Театрум махинарум, то есть Ясное зрелище махин». В ней во всех подробностях описывались 36 различных станков, придуманных и построенных талантливым самоучкой. Нартов хотел издать ее большим тиражом и распространить по всем механическим мастерским России. Но он умер в 1756 году, едва окончив работу, а после смерти о нем быстро забыли: Екатерине было не до наук и ремесел. По иронии судьбы, первым печатным сообщением о Нартове, опубликованным после смерти (при жизни его работы несколько раз упоминались в «Ведомостях»), оказалось объявление о распродаже его имущества за долги. Рукопись же «Театрума» двести лет пылилась в придворной библиотеке, ее извлекли на свет лишь в середине XX века. Могила Нартова затерялась и была обнаружена случайно в 1950 году, после чего Андрея Константиновича с почестями перезахоронили в Александро-Невской лавре.
Нартов не то чтобы опередил свое время, он просто родился не в том месте. Его книга была передовой и наверняка стала бы сенсацией в Америке и Европе, где уже существовало авторское право и работали патентные бюро. В России же ее восприняли как блажь и бессмыслицу.
До наших дней дошли многие изобретения Нартова, например его круговая скорострельная батарея. Также сохранилось несколько токарных станков, — большинство из них экспонируются в Эрмитаже. А самый первый станок с суппортом был привезен Нартовым во Францию и стал частью экспозиции Музея искусств и ремесел. Генри Модсли посещал этот музей во второй половине XVIII века и наверняка изучил станок Нартова. Безусловно, система Модсли много совершеннее, и никто не отказывает британцу в таланте, но с высокой долей вероятности можно утверждать, что он опирался на нартовскую систему, когда в 1790-х годах проектировал свой станок.
Все могло бы быть иначе, но история не знает сослагательного наклонения.
*Суппорт — это элемент станка, в котором укрепляется собственно инструмент. До его изобретения существовали примитивные токарные станки, но инструмент мастера держали в руках, что требовало большого искусства, силы и не позволяло достигнуть высокой точности обработки.
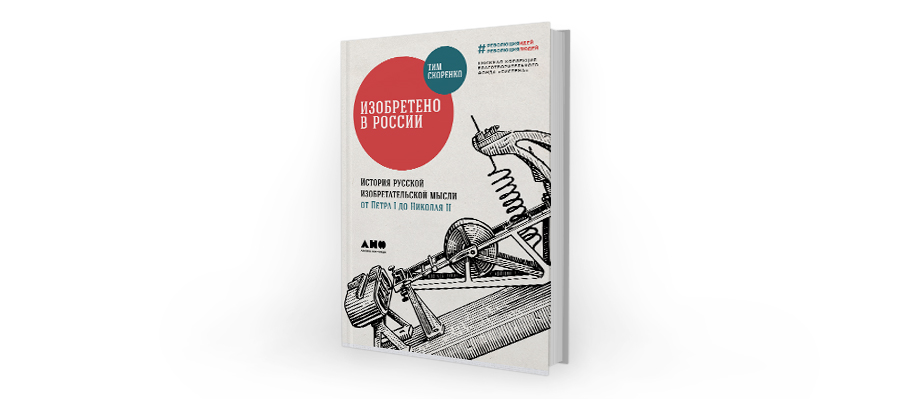
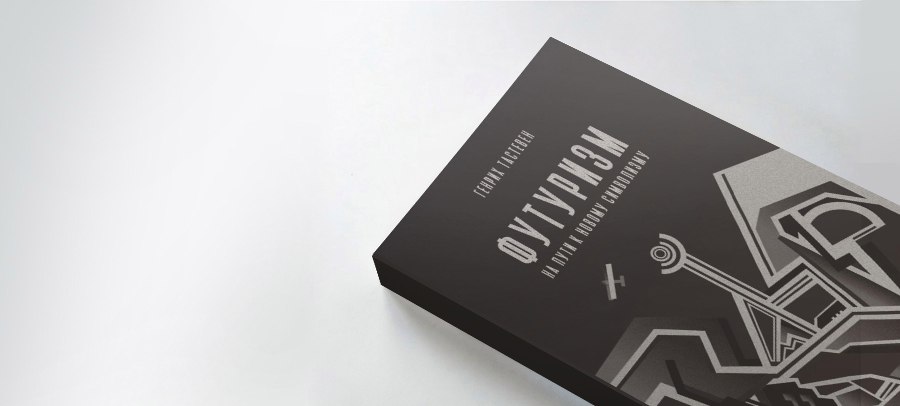
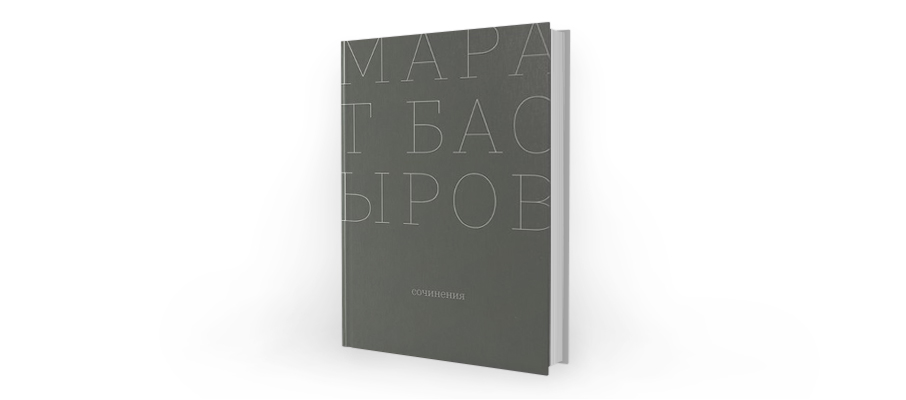
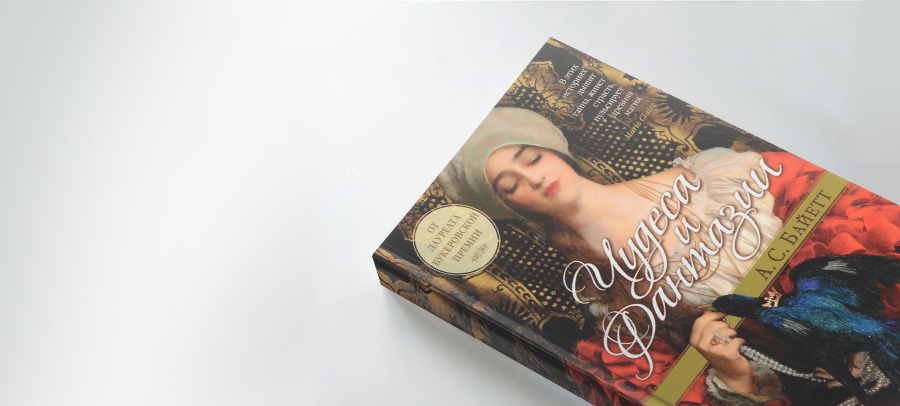

 Литературовед, критик и писатель Артем Новиченков поможет участникам семинара ближе познакомиться с историей поэзии, вникнуть в вопросы ритма и рифмы и находить отличия в поэтических текстах разных эпох. Предметом станет поэзия как одно из самых изящных искусств, а значит — источник эстетического удовольствия.
Литературовед, критик и писатель Артем Новиченков поможет участникам семинара ближе познакомиться с историей поэзии, вникнуть в вопросы ритма и рифмы и находить отличия в поэтических текстах разных эпох. Предметом станет поэзия как одно из самых изящных искусств, а значит — источник эстетического удовольствия. Идея абсурдности жизни стала лейтмотивом произведений Альбера Камю. Традиционно сравнение Камю и Достоевского, однако менее исследована связь французского классика с автором «Войны и мира». По мысли атеиста Камю, следствием отказа смириться с абсурдом становится бунт. Толстой же пытается противопоставить хаосу религиозные смыслы. О том, какими оказались итоги их кризисов и исканий, расскажут лекторы центра «Пунктум».
Идея абсурдности жизни стала лейтмотивом произведений Альбера Камю. Традиционно сравнение Камю и Достоевского, однако менее исследована связь французского классика с автором «Войны и мира». По мысли атеиста Камю, следствием отказа смириться с абсурдом становится бунт. Толстой же пытается противопоставить хаосу религиозные смыслы. О том, какими оказались итоги их кризисов и исканий, расскажут лекторы центра «Пунктум». Ксения Букша — автор книги «Жизнь господина Хашим Мансурова», сборника рассказов «Мы живем неправильно» и романа «Завод „Свобода“», удостоенного премии «Национальный бестселлер». Ее новая книга — вызывающая социально-политическая сатира, настолько смелая и откровенная, что ее невозможно не заметить. На встрече автор ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию.
Ксения Букша — автор книги «Жизнь господина Хашим Мансурова», сборника рассказов «Мы живем неправильно» и романа «Завод „Свобода“», удостоенного премии «Национальный бестселлер». Ее новая книга — вызывающая социально-политическая сатира, настолько смелая и откровенная, что ее невозможно не заметить. На встрече автор ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию. Николай Кононов — поэт, прозаик и издатель, автор романов «Фланер», «Парад», сборников стихотворений «Пловец», «Змей», «Пилот» и других. На вечере Литературного клуба автор прочтет несколько новелл и расскажет о своем пути от стихотворений к романистике.
Николай Кононов — поэт, прозаик и издатель, автор романов «Фланер», «Парад», сборников стихотворений «Пловец», «Змей», «Пилот» и других. На вечере Литературного клуба автор прочтет несколько новелл и расскажет о своем пути от стихотворений к романистике. Цикл «Намедни» — это, конечно прежде всего, история: местами трагическая и абсурдная, местами веселая и неожиданная. Эта книга посвящена одной из самых трагических и судьбоносных эпох — тридцатым годам прошлого века. На встрече автор ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию.
Цикл «Намедни» — это, конечно прежде всего, история: местами трагическая и абсурдная, местами веселая и неожиданная. Эта книга посвящена одной из самых трагических и судьбоносных эпох — тридцатым годам прошлого века. На встрече автор ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию. Артем Фаустов и Любовь Беляцкая открыли магазин «Все свободны» в апреле 2011 года, и до этого момента никто из них не думал, что свяжет жизнь с книжным бизнесом. На встрече Артем и Любовь расскажут о своем проекте и его культурной составляющей, а также порассуждают на тему состояния книжного рынка в современной России и о соотношении сетевых и независимых книжных магазинов в Петербурге.
Артем Фаустов и Любовь Беляцкая открыли магазин «Все свободны» в апреле 2011 года, и до этого момента никто из них не думал, что свяжет жизнь с книжным бизнесом. На встрече Артем и Любовь расскажут о своем проекте и его культурной составляющей, а также порассуждают на тему состояния книжного рынка в современной России и о соотношении сетевых и независимых книжных магазинов в Петербурге. Поэт Кирилл Корчагин прочтет стихи из новой книги «Все вещи мира», а также новые произведения, которые станут предметом дискуссии. Ведущие вечера — Денис Ларионов и Евгений Былина.
Поэт Кирилл Корчагин прочтет стихи из новой книги «Все вещи мира», а также новые произведения, которые станут предметом дискуссии. Ведущие вечера — Денис Ларионов и Евгений Былина. «Бумфест» появился в 2007 года в Санкт-Петербурге и за десять лет он вырос в яркое международное событие в мире авторских комиксов. В программе этого года – встречи с Бенуа Петерсом и Франсуа Скойтеном, лекция Виктора Меламеда, конференция о комиксах в публичных библиотеках и многое другое. Полная программа доступна на
«Бумфест» появился в 2007 года в Санкт-Петербурге и за десять лет он вырос в яркое международное событие в мире авторских комиксов. В программе этого года – встречи с Бенуа Петерсом и Франсуа Скойтеном, лекция Виктора Меламеда, конференция о комиксах в публичных библиотеках и многое другое. Полная программа доступна на  «Рассказы про меня» — совместный проект Редакции Елены Шубиной и ресторана «Дом 12». Каждый месяц современные писатели читают вслух свои тексты и обсуждают их с публикой. На этот раз гостем станет Денис Драгунский — прозаик, журналист, мастер короткого рассказа и герой знаменитых «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского. На встрече он прочтет новеллы из нового сборника «Каменное сердце».
«Рассказы про меня» — совместный проект Редакции Елены Шубиной и ресторана «Дом 12». Каждый месяц современные писатели читают вслух свои тексты и обсуждают их с публикой. На этот раз гостем станет Денис Драгунский — прозаик, журналист, мастер короткого рассказа и герой знаменитых «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского. На встрече он прочтет новеллы из нового сборника «Каменное сердце». Известный филолог, лектор проекта Arzamas Олег Лекманов расскажет об особенностях перевода с языка живописи на язык литературы. В качестве примеров будет рассмотрено творчество Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и других поэтов и прозаиков XX века.
Известный филолог, лектор проекта Arzamas Олег Лекманов расскажет об особенностях перевода с языка живописи на язык литературы. В качестве примеров будет рассмотрено творчество Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и других поэтов и прозаиков XX века. О произведениях Уильяма Фолкнера обычно вспоминают в контексте американского Юга, но в этот раз речь пойдет о его новеллах, посвященных Первой мировой войне: «Расселине», «Победе» и других. Лекцию ведет журналист и писатель Павел Соколов.
О произведениях Уильяма Фолкнера обычно вспоминают в контексте американского Юга, но в этот раз речь пойдет о его новеллах, посвященных Первой мировой войне: «Расселине», «Победе» и других. Лекцию ведет журналист и писатель Павел Соколов. Редактор «Дамского журнала» и «Московских ведомостей» князь Петр Шаликов знаменит характерной внешностью и вызывающим стилем одежды. О том, как этот человек, автор многочисленных сентиментальных посланий, нечаянно изобрел «онегинскую» строфу за десять лет до Пушкина, расскажет Владимир Сперантов.
Редактор «Дамского журнала» и «Московских ведомостей» князь Петр Шаликов знаменит характерной внешностью и вызывающим стилем одежды. О том, как этот человек, автор многочисленных сентиментальных посланий, нечаянно изобрел «онегинскую» строфу за десять лет до Пушкина, расскажет Владимир Сперантов. Доктор философских наук Андрей Макаров расскажет об истоках удивительной способности Андрея Тарковского показать вечное сквозь бытовое: чистоту в грязи, правду личности в обрамлении погрязшего во лжи мира. Слушатели узнают, как эта особенность его фильмов напрямую соотносится с приемом советской интеллигенции 70-80-х «читать сквозь строки».
Доктор философских наук Андрей Макаров расскажет об истоках удивительной способности Андрея Тарковского показать вечное сквозь бытовое: чистоту в грязи, правду личности в обрамлении погрязшего во лжи мира. Слушатели узнают, как эта особенность его фильмов напрямую соотносится с приемом советской интеллигенции 70-80-х «читать сквозь строки». В отличие от Толстого и Камю, выдающийся писатель-модернист Франц Кафка утверждает мысль о бесполезности борьбы против абсурдности существования. До сих пор мало кто из исследователей рассматривал сходство художественных миров и мировосприятия Кафки и раннего Чехова. О том, как перекликаются романы и странные новеллы Кафки с рассказами «Страхи», «Палата № 6» и другими, расскажет лектор Никита Тимофеев.
В отличие от Толстого и Камю, выдающийся писатель-модернист Франц Кафка утверждает мысль о бесполезности борьбы против абсурдности существования. До сих пор мало кто из исследователей рассматривал сходство художественных миров и мировосприятия Кафки и раннего Чехова. О том, как перекликаются романы и странные новеллы Кафки с рассказами «Страхи», «Палата № 6» и другими, расскажет лектор Никита Тимофеев. «Открытая читка» — литературный салон, где чтение вслух становится способом общения и творческого самовыражения ребенка и подростка. На встрече юные любители литературы будут читать вслух собственные сочинения и просто любимые произведения. Завершится вечер выбором трех лучших чтецов, ребята получат подарки от издательств: «Питер», «Самокат», «Нигма», «Белая ворона».
«Открытая читка» — литературный салон, где чтение вслух становится способом общения и творческого самовыражения ребенка и подростка. На встрече юные любители литературы будут читать вслух собственные сочинения и просто любимые произведения. Завершится вечер выбором трех лучших чтецов, ребята получат подарки от издательств: «Питер», «Самокат», «Нигма», «Белая ворона». Антиутопия «Рассказ служанки» авторства Маргарет Этвуд вышла в 1985 году и вошла в корпус классических текстов жанра. Но в 2017-м всем стало очевидно, что эта история снова стала угрожающе актуальной. На встрече участники обсудят первоисточник и экранизацию — сериал Брюса Миллера.
Антиутопия «Рассказ служанки» авторства Маргарет Этвуд вышла в 1985 году и вошла в корпус классических текстов жанра. Но в 2017-м всем стало очевидно, что эта история снова стала угрожающе актуальной. На встрече участники обсудят первоисточник и экранизацию — сериал Брюса Миллера. Режиссер Рома Либеров и телеведущий Владимир Раевский продолжают цикл «От автора». На этот раз гостем станет поэт Сергей Шестаков — он прочтет свои избранные стихотворения и расскажет историю создания каждого, чтобы дать читателю ключ к пониманию лирики.
Режиссер Рома Либеров и телеведущий Владимир Раевский продолжают цикл «От автора». На этот раз гостем станет поэт Сергей Шестаков — он прочтет свои избранные стихотворения и расскажет историю создания каждого, чтобы дать читателю ключ к пониманию лирики. Участники встречи обсудят редкую для современной литературы проблему матерей и дочерей, разберутся в особенностях авторского стиля Славниковой, а также поговорят о месте женщины в современных реалиях. Ведущий цикла — аспирант Литературного института Татьяна Климова.
Участники встречи обсудят редкую для современной литературы проблему матерей и дочерей, разберутся в особенностях авторского стиля Славниковой, а также поговорят о месте женщины в современных реалиях. Ведущий цикла — аспирант Литературного института Татьяна Климова. Музей истории ГУЛАГа и электронный корпус дневников «Прожито» приглашают присоединиться к расшифровке рукописей. Задача лаборатории — собрать и подготовить к изданию дневники людей разного социального происхождения и с разными социальными траекториями. Такие дневники должны показать, как исторические события сказывались на личных судьбах. Для участия в расшифровках понадобится ноутбук или планшет.
Музей истории ГУЛАГа и электронный корпус дневников «Прожито» приглашают присоединиться к расшифровке рукописей. Задача лаборатории — собрать и подготовить к изданию дневники людей разного социального происхождения и с разными социальными траекториями. Такие дневники должны показать, как исторические события сказывались на личных судьбах. Для участия в расшифровках понадобится ноутбук или планшет.